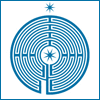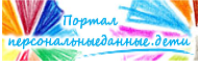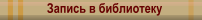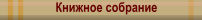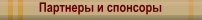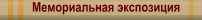Бюллетень. Номер пятый. Из архива.
А.И. Резниченко. Сергей Раевский и Марина Цветаева:прогулки в тени Вавилонской башни(из архива С.Н. Дурылина). Страница 1.
Стр.: , ,
В Мемориальном Доме-музее С.Н. Дурылина в Болшеве хранится немало документов, решительно ставящих в тупик неискушенного описывателя чужих архивов. Такой, к примеру:
Листы обычной школьной тетради в линейку развернуты по вертикали и соединены между собой в самодельную книжицу. На титульном листе книжицы (стандартная обложка школьной тетради) название:
МУСАГЕТ,
1911 ГОД. АНТОЛОГИЯ.
И инскрипт: «Милая моя Ариша, дарю тебе эту книжку, полную воспоминаний о том, что кажется небывалым, невозможным, но что было, было, было. С.Д.» (1)
Текст самих стихотворений отсутствует. Зато есть то, что традиционно считается контекстным, маргинальным по отношению к Тексту – к примеру, оглавление сборника, каталоги издательств «Альциона», «Скорпион», «Мусагет», «Орфей» – с комментарием Дурылина по поводу роли и статуса каждого из них; роспись философского журнала «Логос» (напомню, что в современной исследовательской науке росписи «Логоса» появились только в 1991 г., в первом номере журнала, носящего то же название, а окончательная научная роспись Логоса вышла лишь в 2005 г. усилиями А.А. Ермичева); рецензия Н. Гумилева на сборник – причем в «переплетенку» включена практически вся библиографическая подборка того номера «Аполлона», в котором эта рецензия была опубликована, в том числе и рецензия на «Cor Ardens» Вяч. Иванова, и некрологи, посвященные Константину Фофанову и Виктору Гофману; обзоры русских и иностранных журналов.
И – более чем через тридцать лет после выхода мусагетской антологии в свет – комментарий Дурылина к этим стихам, сопровождаемый кратким очерком-портретом стихотворца.
Это абсолютно свободное, неподцензурное повествование. Дурылинские оценки переполняет радость от этой свободы. Автор их волен не считаться ни с чем, кроме собственной «памяти сердца»: ни идеологическими стереотипами (напомню, что текст книжицы, судя по сообщению (неточному) о годе и месте гибели Марины Ивановны Цветаевой, написан после 1942 г.), ни с традиционной, уже выстраивавшейся к середине ХХ в. «табели о рангах» русской поэзии начала века. Разумеется, эти ремарки субъективны. Однако примерно в то же время «болшевский мудрец» так обосновывал почти кьеркегоровский пафос истинности собственной субъективности:
«Былое подобно стране, которую когда-то посетил, в которой когда-то жил, – и теперь, когда не живешь и не можешь жить в ней, а пытаешься рассказать о ней, встречаешь одно неодолимое препятствие <…>: можно весьма точно рассказать о поверхности этой страны о ее растительности, о ее племенах о городах, – но как передать тот воздух, которым дышалось, когда жил в ней? Как вернуть тот аромат цветущих садов и лугов, который невозвратим? Как передать тот свет, который струился и трепетал над этими лугами, лесами и равнинами? Человек со всеми его делами и деяниями – передаваем ли без той атмосферы мыслительной, сердечной, духовной, которою он был окружен когда-то, которою он дышал, в которую сам он вносил свое дыхание детства, отрочества, юности, молодости? Как поймать это дыхание, давным-давно канувшее в вечность? Как воплотить его в слова, в образы, как передать его другим? <…>
Человек без дыхания – мертв. <…>
Да, инвентарь, опись прошлого мы создать можем, но его душа, его дыхание – вишневый белый сон младенчества, первые грозы ранней юности, “осенний мелкий дождичек” эти же первых юных лет, впервые предупреждающий о том, что жизнь скоро и грубо сорвет с календаря листок с “апрелем” и заменит его “ноябрем”, – все это атмосферическое, подлинно живое, что было в минувшем, не только невозвратимо (в этом еще не вся боль) – оно непередаваемо, ибо оно … невспоминаемо!
И единственное, что мы можем сделать, чтобы как-то сохранить это “дыхательное” своего прошлого, – это сберечь подлинные листки своего былого “апреля” <…>
Я помню, следовательно, я существую.
Меня уже нет на свете, как младенца, тянущегося к цветущей яблоне в саду, как отрока, впервые читающего Лермонтова за маленьким столиком с зеленым сукном; меня нет уже как юноши, впервые наклонившегося над волною белого моря в солнечную ночь, но я, старик, одновременно <…> помню себя в этом ребенке, отроке, юноше и ощущаю их небытие во вне <…>, как действительное бытие (курсив С. Дурылина – А.Р.) во мне самом, в неразложимости моего “я есмь”.
Вспоминая, я живу сам и оживляю других, поглощенных временем. Более того: я живу в других, я живу в чужом или стороннем бытии, как в своем собственном (курсив мой. – А.Р.)» (2).
Стр.: , ,
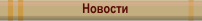
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
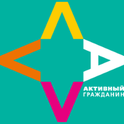
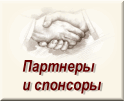


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
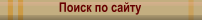
|