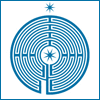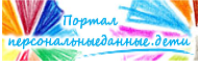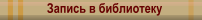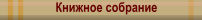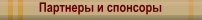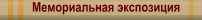Бюллетень. Номер двенадцатый. Наши публикации
П.В.Резвых. Ф.В.Й. Шеллинг и А.Ф. Лосев: Тезисы к постановке проблемы
1. Место Лосева в русской шеллингиане
Даже при самом поверхностном взгляде на наследие Лосева нетрудно заметить, что в истории рецепции шеллинговских идей в России его творчество занимает совершенно особое место.
а) В целом для русской философии характерны скорее косвенные формы рецепции шеллинговских идей. Напротив, у Лосева референции к Шеллингу всегда специфичны, предметны, конкретны. В этом отношении его высказывания существенно отличаются от высказываний многих других философов Серебряного века, способствовавших поддержанию определенной мифологии вокруг шеллинговской философии. Для контраста достаточно указать, к примеру, на Бердяева, Лосского или даже Франка, у которых мы не найдем ни детального анализа шеллинговских текстов, ни тщательной работы со специфической для него терминологией и аргументацией. Разговор о Шеллинге ведется здесь на уровне самых общих философских интуиций, и по высказываниям русских авторов невозможно даже установить, с какими именно оригинальными текстами Шеллинга они были знакомы. Напротив, лосевский взгляд на наследие Шеллинга поражает дифференцированностью и специфичностью его анализа: свои суждения о Шеллинге Лосев всегда основывает на детальном анализе конкретных текстов с точными ссылками, сопровождая свои соображения реферирующими пересказами и даже собственными переводами[1].
б) Вместе с тем обращает на себя внимание также исключительно широкий охват освоенного Лосевым текстового материала. В отличие от многих своих современников, Лосев последовательно избегает искусственного рассечения шеллинговского творчества на «периоды», каждый из которых репрезентируется каким-то одним наиболее известным текстом. Для Лосева существует один цельный Шеллинг, и во всех своих комментариях он довольно последовательно проводит мысль о тематическом, проблемном и содержательном единстве шеллинговской философии. Заметим, что в западном шеллинговедении такой взгляд утвердился лишь в 50—80-е гг. ХХ века. Конечно, такое целостное восприятие шеллинговского наследия не исключает наличие для Лосева определенных фаворитов в ряду шеллинговских сочинений. Читатель «восьмикнижия» сразу обратит внимание на то, что особенно часто и охотно Лосев цитирует три текста: «Систему трансцендентального идеализма», «Философию искусства» и «Введение в философию мифологии». Однако в тех же работах есть ссылки и на «Изложение моей системы философии» 1801 г., и на вюрцбургские «Афоризмы к введению в натурфилософию» и «Афоризмы о натурфилософии» 1806 г., и даже на ранние натурфилософские сочинения, например, на «Идеи к философии природы». Особенного удивления заслуживает тот факт, что Лосев дважды дает ссылки на совершенно почти в его время неизвестные и очень слабо реципированные «Мировые эпохи» — текст, радикальная переоценка которого во многом определила судьбы западноевропейского шеллинговедения в 1940—1950-е гг. Поскольку Лосев явно хорошо ориентируется в корпусе Шеллинга в целом, довольно неожиданным выглядит то обстоятельство, что Лосев почти повсюду обходит молчанием тексты по философии откровения, казалось бы, наиболее притягательные для религиозного философа. Из единственного критического замечания относительно шеллинговского учения о Церкви[2] можно заключить, что с текстами философии откровения Лосев тоже был знаком, более того, довольно пристально и критически их изучал. Остается только гадать о том, почему Лосев не оставил развернутых критических суждений именно о философии откровения, которая должна была особенно заинтересовать мыслителя, сформулировавшего идею абсолютной мифологии.
в) Наконец, и это весьма существенно, Лосев сам не только открыто признает, но и настойчиво подчеркивает свою идейную близость к Шеллингу и прямую философскую преемственность между своими философскими построениями и центральными идеями шеллинговского творчества. В этом отношении особенно показателен пространный автобиографический пассаж из «Очерков античного символизма и мифологии», где Лосев, описывая генезис предложенной в этом труде новаторской концепции платонизма, отводит возможный упрек в зависимости от Шпенглера и настаивает: «…[В]овсе не Шпенглер, а изучение эстетики Гегеля и Шеллинга привело меня к формуле античности, которую я даю в I очерке этого тома. <…> трехтомные гегелевские «Лекции по эстетике» и шеллинговскую «Философию искусства» я впервые тщательно проштудировал не раньше 1924 г. И должен прямо сказать, это сочинения произвели на меня огромное впечатление. Из них-то я и почерпнул то удивительное понимание античности, которое гениально вскрывает и ее полную специфичность и несводимость ни на какой другой культурный тип и ставит ее в совершенно ясную диалектическую взаимозависимость с другими основными культурно-историческими эпохами. <…> мое понимание спецификума античной культуры зависит <…> прежде всего — от гегелевского учения о «символической», «классической» и «романтической» художественной форме и от шеллинговского учения о существе античного символа и мифа»[3]. В «Диалектике художественной формы» Лосев столь же однозначно высказывается о прямой преемственности собственных построений в области теоретической эстетики от шеллинговских. Эти высказывания тоже побуждают отнестись к восприятию Лосевым Шеллинга с особым вниманием.
На мой взгляд, в тех случаях, когда речь идет об идейной близости или даже преемственности, связывающей самостоятельных и значительных мыслителей, ключ к пониманию сложных взаимоотношений между ними следует искать не столько в общности ответов, сколько прежде всего в общности проблематики. Поэтому на первых подступах к разработке темы «Шеллинг и Лосев» я постараюсь кратко перечислить и содержательно раскрыть те основные проблемные комплексы, которые, на мой взгляд, являются для Шеллинга и Лосева общими и мотивируют лосевский интерес к наследию Шеллинга.
2. Шеллинг и Лосев о диалектике первосущности
Поскольку Лосев открыто и последовательно позиционирует собственные философские искания как прямое продолжение традиции европейской диалектики, он, естественно, никак не мог обойти своим вниманием мыслителя, занимающего ключевое место в истории спекулятивной диалектики немецкого идеализма. Однако один только интерес Лосева к спекулятивной диалектике вовсе еще не объясняет преимущественного интереса именно к Шеллингу и того явного предпочтения, которое Лосев отдает ему перед Гегелем. На мой взгляд, в проблематике диалектики первосущности, как она развернута в шеллинговских построениях, определяющим и наиболее существенным оказываются не проблемы диалектического отрицания, полярности и противоречия, не общедиалектические фигуры мысли, в равной мере формообразующие для мышления многих других немецких мыслителей первой четверти XIX в. — Фихте, Гегеля, Зольгера и т.п. (показательно, что с наследием перечисленных авторов Лосев тоже очень интесивно работал). Принципиальной точкой глубинной общности с Шеллингом для Лосева становится другая, возможно, куда более фундаментальная структурная проблема — проблема соотношения сущности и той формы, в которой сущность может быть выражена.
Надо сказать, что этот вопрос — каким образом безусловное, т.е. сущность, содержащая в себе основание всякого определения, может стать доступным для мысли — является центральной для всего шеллинговского творчества, и именно в решении этого вопроса Шеллинг с самого начала движется в принципиально ином направлении, нежели Гегель. Особенно ясно этой видно при анализе программных текстов так называемой философии тождества, в частности, «Изложения моей системы философии» 1801 г., где Шеллинг впервые ясно формулирует принципиальное различие, имеющее решающее значение для его понимания абсолютного — различие между сущностью и формой. Абсолютное как абсолютное тождество раскрывается всегда в некоторой форме — в форме отождествления абсолютного с самим собой или, как это называет Шеллинг, самоутверждения абсолютного. Форма соотнесенности с самим собой, как стремится показать Шеллинг, — это форма, которую всегда имеет любой смысл, но которая, тем не менее, никогда не может вместить всю полноту сущности. Шеллинг фиксирует это в парадоксальной формуле: абсолютное всегда существует и выражается только в форме, и в этом смысле форма абсолютного есть сама сущность его (ведь абсолютное содержание может быть выражено только в абсолютной форме), однако сущность, тем не менее, никогда не есть форма. Эта фиксация принципиально асимметричного отношения между сущностью и формой в разнообразных вариациях проходит через все шеллинговское творчество, вплоть до поздних сочинений, где он оперирует фигурой предпосылания всякому смыслу некоторого абсолютно неформализуемого, неартикулируемого в мысли, предшествующего мышлению (unvordenkliche), абсолютно положительного принципа, который хотя и делает всякий смысл возможным, но именно поэтому сам как определенный смысл выражен быть не может.
Именно эта идея лежит в основании главного методического инструмента шеллинговской философии - концепции потенций. Потенцирование абсолютного Шеллинг понимает как раскрытие его в виде многих разных единств, которые, будучи многими, тем не менее не представляют собою части абсолютного, но разные формы выражения полноты, которые через взаимосоотнесение друг с другом эту полноту делают нам доступной. Именно эта концепция приницпиально отличает шеллинговскую концепцию от гегелевской. Для Гегеля абсолютное существует не только в форме, но и как форма — как самодвижущаяся форма, поэтому никакого не умещающегося в форму трансцендентного остатка гегелевская концепция первосущности не допускает[4].
Если мы посмотрим теперь на лосевские построения периода «восьмикнижия», то без труда увидим прямую параллель этим шеллинговским рассуждениям в выкладках Лосева о понятиях сущности и энергии. На этот параллелизм прямо указывает и сам Лосев в замечательном примечании к «Диалектике художественной формы», где речь идет о понятии потенций в шеллинговской философии мифологии. Лосев пишет:
«Из новейшей философии родственные построения я нахожу у Шеллинга в его сложном учении о Потенцииях. Потенции Шеллинга, говоря вообще и не вникая в детали, есть иначе учение об энергии. Я приведу — Ideen SW I 2, 66—67, об идеальных и реальных потенциях, Weltalter I 8, 309 cлл., о мировых эпохах как потенциях, Philos. d. Myth. — см. наше прим. 22. Весьма важно отдавать себе полный отчет в принципиальной важности и серьезности понятия энергии. Это — то понятие, которого необходимо требует апофатизм, если он не хочет остаться простым агностицизмом. Так как апофатизм оправдан только в виде символизма, то все, что ни познается в сущности, есть ее энергия, хотя через энергию мы утверждаем и саму сущность. Сущность дана только в свете своих энергий, но, имея эти энергии, мы через них отличаем сущность от энергий. Поэтому три перво-начала диалектики, не будучи ни в каком смысле энергией (это сущность, а не энергия), даны нам только через энергийное излучение и в энергиях. В свете энергии и все, что есть в сущности, дано энергийно. … Так и Шеллинг, взявши аристотелевское учение о четырех формах и давши его диалектику, понимает их как потенции, необходимые в общем мифологическом процессе. Энергия, таким образом, есть необходимая категория того мировоззрения, которое живет как апофатикой, так и символикой и объединяет их, при всей их раздельности, в одной неделимой самотождественной точке»[5].
Если сформулировать принципиальное расхождение между шеллинговским и гегелевским методами на языке лосевских понятий, можно сказать, что апофатический момент в концепции Гегеля является внутренним моментом самой формы, а у Шеллинга выведен за пределы формы и сокрыт в глубине сущности.
Cледует особо отметить, что Лосев на редкость точно понимает систематическую функцию учения о потенциях и его принципильное отличие от гегелевского «снятия» именно по функции в системе. Кстати, это позволяет ему увидеть то, чего не видел практически никто из современников — единство концепции потенций от ранних натурфилософских сочинений вплоть до «Философского введения в философию мифологии». Как известно, у среднего и позднего Шеллинга концепция потенций тесно связана с проблематикой творения, с поиском инстанции, опосредующей связь между творцом и сотворяемым в акте творения. Из приведенного лосевского примечания ясно видно, что для него ранняя натурфилософская концепцию потенций как форм саморазличения абсолютного и концепция 1830—40-х гг., связывающая потенции, с одной стороны, с модальностями, а с другой, с аристотелевскими причинами, суть лишь две различные транскрипции одной и той же структурной проблемы — проблемы отграничения сущности от формы, в которой сущность выражается, при сохранении полноты выражения.
Впрочем, именно эти размышления позднего Шеллинга создают Лосеву серьезные трудности. Стоит задуматься над тем, почему такой последовательный поборник апофатизма, как Лосев, почему-то оказывается совершенно нечувствителен к радикальному ограничению прав диалектики, которое Шеллинг проводит уже в 1810-е гг. и которое в несомненно известных Лосеву более поздних текстах получает свою наиболее радикальную форму в различении отрицательной и положительной философии. Для Лосева совпадение абсолютной диалектики и абсолютной мифологии не только возможно, но и неизбежно — для Шеллинга между обеими всегда остается неустранимый разрыв, основанием которого служит как раз асимметрия сущности и формы. Это принципиальное расхождение тем поразительнее, если учесть общность исходной постановки проблемы. Полагаю, что прояснение вопроса о том, каковы аргументативные основания для столь разных выводов из одних и тех же предпосылок, помогло бы лучше понять и отношение Лосева к немецкому идеализму в целом.
3. Смысл, выражение, имя
Благодаря различению сущности и формы в центр внимания и Лосева, и Шеллинга совершенно закономерно выдвигается проблема выражения. Следует сразу заметить, что для лосевского восприятия не только шеллинговского творчества, но и вообще всего немецкого идеализма в целом, решающее значение имеет осознание того, что абсолютное немецкого идеализма — это не субстанция, не особого рода предметность, а инстанция смысла. Поэтому форма, о которой идет речь в шеллинговских текстах и которая находится в обозначенном выше парадоксальном отношении к сущности, — это именно форма всякой возможной осмысленности. На то, что именно такое понимание абсолютного отвечает шеллинговским намерениям, совершенно ясно указывает содержащееся в «Изложении моей системы философии» прямое разъяснение относительно того, какая именно форма находится в описаном выше парадоксальном отношении к обусловливающей ее сущности: это форма, в которой нечто может быть высказано, форма соотношения субъекта и предиката, форма «сказывания». Соответственно, шеллинговские потенции — это способы сказывания, функции выражения. Важно отметить, что внутреннее устройство формы смысла, то есть предикативной формы, тоже отмечено принципиальной асимметрией: чтобы понимать смысл сказывания, нужно быть способным усматривать принципиальную необратимость отношения между субъектом и предикатом, в противном случае помыслить какой бы то ни было определенный смысл будет невозможно. Обращая внимание на это обстоятельство, Шеллинг стремится показать, что асимметрия субъекта и предиката, в свою очередь, обусловлена асимметрией сущности и формы.
Совершенно неудивительно поэтому, что Лосев, подхватывая шелинговскую тему асимметрии сущности и формы (или, как на неоплатоническом языке сформулировал он сам, сущности и энергии), последовательно развернул эту проблематику в плоскость философии языка — ведь именно обоснование возможности языка исходя из асимметрии сущности и энергии составляет основную аргументативную интригу «Философии имени». По существу, в «Философии имени» Лосев попытался последовательно провести спекулятивную дедукцию всех уровней и способов организации смысла именно из внутреннего напряжения между сущностью и энергией — идея, структурно чрезвычайно близкая не только «Системе трансцендентального идеализма», но и «Мировым эпохам».
Однако и здесь отношение Лосева к шеллинговской концепции оказывается куда более сложным, чем можно было бы ожидать. Именно потому, что обращение к теме имени в контексте общей для Шеллинга и Лосева структурной проблематики столь естественно и закономерно вне всякой зависимости от специально теологических мотивов, достойно всяческого изумления, что создатель «Философии имени» — трактата, где целый ряд спекулятивных дедукций осуществляется с прямыми ссылками на «Систему трансцендентального идеализма» и даже на «Мировые эпохи», — нигде даже не упоминает о том, что в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» и особенно в тех же «Мировых эпохах» Шеллинг обозначает потенцирование абсолютного как изречение слова (Aussprechen). При этом он (в прямой и косвенной полемике с Кантом) увязывает проблематику предикации с весьма характерным учением о генеративном смысле связки в суждении. По мысли Шеллинга, связка «быть» не обозначает простое тождество или равенство, а функционирует как транзитивный глагол, как функция выражения, делающая возможным определение изначально неопределенного смыслового субстрата. Эта концепция транзитивного бытия, несомненно, очень близка лосевским рефлексиям по поводу соотношения эйдоса и логоса, однако и о ней Лосев ничего не говорит. Эти значимые умолчания, как мне кажется, сигнализируют об осознаваемом самим Лосевым, но не афишируемом им внутреннем напряжении между обеими концепциями и могли бы стать предметом отдельного исследования, которое бы многое прояснило в специфике лосевского прочтения шеллинговской философии.
4. «Диалектика мифа» Лосева и «Философия мифологии» Шеллинга
Глубокая общность лосевской концепции мифологии и понимания мифологии, развитого в «Философии искусства» и «Философии мифологии» Шеллинга, не только очевидна, но открыто признавалась также и самим создателем «Диалектики мифа». Однако, быть может, именно потому, что наличие связи само по себе здесь не подлежит сомнению, стоит внимательнее приглядеться к обеим теориям и постараться более дифференцированно осмыслить довольно сложные отношения между ними. Сам Лосев так характеризует эти отношения: «наше учение о мифе и есть, в сущности, учение и Шеллинга; и интересно, что мы пришли к нему независимо от его предпосылок и терминологии, в чем нельзя не видеть косвенного доказательства правильности нашей конструкции»[6].
а) Первое, что сразу бросается в глаза при сопоставлении мифологических работ Шеллинга и лосевской «Диалектики мифа» — это последовательно проводимая обоими мыслителями методическая установка на имманентную осмысленность мифа, последовательный и решительный отказ от всех редукционистских теорий в отношении мифологии. Шеллинг, как известно, является едва ли не первым западным мыслителем, последовательно и систематически проводившим именно такой взгляд на миф, поэтому совершенно естественно, что Лосев берет его себе в союзники. Примечательно, что даже в основу композиции «Диалектики мифа» Лосевым положен тот же риторический прием, которым пользуется Шеллинг в «Историко-критическом введении в философию мифологии» — здесь последовательно критикуются и отклоняются все неимманентистские теории мифа (миф не есть ни научное объяснение, ни метафизическая конструкция, ни религиозное образование и т.д.).
б) Как у Шеллинга, так и у Лосева имманентистское понимание мифа становится возможным лишь благодаря истолкованию его как символической реальности с опорой на систематическое различение символа, схемы и аллегории. Примечательно, что, хотя в поздней «Философии мифологии» Шеллинг понятием символа не пользуется, поскольку на его место заступает переработанная концепция потенций как модальностей, Лосев абсолютно безошибочно фиксирует общее основание обеих концепций мифа. Впрочем, надо отметить, что лосевская интерпретация знаменитого § 39 «Философии искусства», где вводится и обосновывается различение символа, схемы и аллегории, при ближайшем рассмотрении оказывается довольно своеобразной. Решительно солидаризируясь с Шеллингом в отношении понятия символа, Лосев почему-то неожидано поверхностно толкует понятие схемы, совершенно игнорируя неоднократные прямые указания Шеллинга на связь схематизма с языком. Здесь мы тоже встречаемся со значимым умолчанием, которое сигнализирует некое внутреннее напряжение: положив в шеллинговскую концепцию символа и в основу своей концепции мифа, и в основу своей эстетической концепции, Лосев вместе вольно или невольно вытесняет на задний план те аспекты шеллинговской интерпретации схематизма, которые оказываются трудно совместимыми с его собственным пониманием языка и слова, развитым в «Философии имени». Это, на первый взгляд, мелкое наблюдение показывает всю сложность лосевского отношения к Шеллингу: идейная солидарность тесно переплетена здесь с явной или латентной тенденцией к размежеванию.
в) Менее очевиден другой общий мотив шеллинговской и лосевской теорий мифа: в обеих концепциях ключевую роль играет практическая реальность мифа. Однако и здесь позиция Лосева в отношении Шеллинга амбивалентна. Ссылаясь на шеллинговское понятие символа, он именно с его помощью обосновывает магико-теургическую природу мифа и его абсолютную несводимость мифа к «воззрению». Именно как символическая реальность миф в своем окончательном, завершенном воплощении всегда имеет для Лосева характер деятельного преображения. Отсюда ярко выраженный аскетический мотив, красной нитью проходящий через текст «Диалектики мифа». Казалось бы, заявляя о принципиальном совпадении методической установки Шеллинга в отношении мифа, Лосев должен был бы признать, что в своей предельной последовательности шеллинговская философия мифологии тоже должна иметь свое этико-аскетическое измерение. Однако Лосев не видит, что интерес Шеллинга к мифу тоже принципиально мотивирован практической философией, то есть этикой и аскетикой. Об этом ясно свидетельствует симптоматичное примечание из «Дополнения к "Диалектике мифа"»: «В немецком идеализме <...> нет целомудренности антично-средневекового апофатизма и нет той жизненной цельности, при которой понимающий абсолютное бытие и чувствующий его должен быть монахом, аскетом, подвижником, пустынником. То, что Фихте, Шеллинг, Гегель и Шопенгауэр не перешли в православие и не удалились в монастырь ради поста, молитвы и спасения своей души, а продолжали сидеть на кафедрах и читать лекции, указывает на то, что их Абсолют есть для них, в конце концов, все же только идея — правда, полнейшая, глубочайшая, искреннейшая, но — только идея, а не авторитарная, абсолютная, мифическая действительность»[7]. Между тем, как нам известно сегодня, в обосновании Шеллингом идеи мифологического процесса центральную роль играет как раз указание на практическую реальность мифических сущностей, выраженную прежде всего в жертвоприношении. Интересно, что европейское шеллинговедение пришло к постановке вопроса о практической значимости шеллинговской философии мифологии сравнительно недавно[8], причем большую роль в этом процессе сыграла публикация материалов из наследия философа, с которыми Лосев, конечно, никак не мог быть знаком[9]. Тем поразительнее, что, продумывая до конца предпосылки шеллинговской философии мифа, Лосев в своих претензиях к ней как бы указывает на смысловую лакуну, впоследствии заполненную новооткрытыми текстами.
г) Несмотря на указанное выше принципиальное расхождение Лосева с Шеллингом в оценке возможностей диалектики, сформулированная им в «Дополнении к "Диалектике мифа"» идея абсолютной мифологии, по существу, продолжает и расширяет выдвинутый Шеллингом проект «философии откровения». Хотя о замысле, оставшемся неосуществленным, мы имеем весьма фрагментарное представление, нельзя не обратить внимания на симптоматичные совпадения. Например, развитая в отрывке «Первозданная сущность» дедукция ангелологии с опорой на диалектику сущности и энергии чрезвычайно близка к шеллинговскому обоснованию ангелологии с помощью концепции потенций. Хотя понятие откровения в концепции Лосева, в отличие от шеллинговской, никакой существенной роли не играет, нетрудно увидеть, что в «Диалектике мифа» его функции по существу берет на себя понятие чуда, а в рукописи «Самое само» — понятие тайны. Чрезвычайно интересно, что в своих размышлениях о существе тайны Лосев, опять же, словно угадывает размышления Шеллинга о существе откровения как скрывающего открывания, развитые в лекционных курсах 1820-х гг., тексты которых никаким образом Лосеву не могли быть известны: близость обеих концепций оказывается даже еще более тесной, чем это могло быть явно осознано им самим.
д) Наконец, шеллинговскую и лосевскую концепции мифологии роднит еще одна общая интенция — установка на расширение философии мифологии в область философии истории. Как известно, именно историософские импликации «Диалектики мифа» и в особенности развернутая Лосевым на базе основных принципов теории мифа критика современности во многом определили трагическую судьбу этой книги. С публикацией «Дополнений» стало особенно очевидно, что историософская перспектива, в частности, демонстрация принципиально мифологического характера мышления современности и выявление мифологических оснований базовых онтологических и космологических концепций Нового времени являются одной из важнейших составляющих «Диалектики мифа». Однако и в этом Лосев, осознанно или неосознанно, выступает прямым наследником Шеллинга. Исследователи Шеллинга давно задавались вопросом, почему одной из составных частей шеллинговской концепции мифологического процесса оказывается пространное изложение истории новой философии. Исследования последних десятилетий показали, что Шеллинг видит в формировании новоевропейской философии прямое продолжение мифологического процесса, то есть возникновение новой мифологии, мифологии разума[10]. Таким образом, в критической реконструкции мифологического субстрата новоевропейской научной рациональности Шеллинг и Лосев тоже оказываются союзниками. Приведу один поразительный пример. Как Шеллинг, так и Лосев с одинаковым негодованием обрушиваются на ньютоновскую теорию однородного абсолютного пространства, разоблачая ее именно как мифологию, формообразованную определенным нравственно-практическим посылом: первый называет теорию тяготения «системой всеобщей низости», второй объявляет механику Ньютона «мифологией нигилизма». Это удивительное единодушие тоже не является случайностью, а ясно свидетельствует об общности истока обеих концепций.
5. Заключительные замечания
Разумеется, изложенные соображения не исчерпывают всей сложности взаимоотношений обеих философских концепций, тем более что в них совершенно изъят из рассмотрения важнейший — биографический — аспект. Тщательное изучение биографических документов и свидетельств, вероятно, могло бы способствовать не только более детальной реконструкции лосевской рецепции Шеллинга, и остается только сожалеть о том, что большая часть таких документов безвозвратно утрачена. Однако анализ самих текстов показывает, насколько причудливо переплетаются в лосевском прочтении Шеллинга энтузиастическое приятие, инструментальное присвоение, продуктивное непонимание и неожиданно точное герменевтическое проникновение, граничащее с дивинацией. Именно постижение этой многомерности, характерной для любого настоящего диалога, и является главной задачей при изучении взаимоотношений между западноевропейской и русской философиями.
___________________________
1 Впрочем, переводы Лосевым пассажей из различных шеллинговских сочинений заслуживают отдельного разговора, поскольку при внимательной сверке с оригиналом обнаруживается, что в передаче шеллинговских мыслей повсюду Лосев существенно смещает смысловые акценты, в целом ряде спорных случаев принимает довольно неожиданные переводческие решения, а порой просто допускает небрежности.
2 «У Шеллинга мы найдем даже и религиозное конструирование мифа; но это религиозное построение не есть, собственно говоря, подлинно религиозное построение. Подлинное религиозное построение мифа уже не может быть просто теорией, хотя бы даже и теорией мифа и хотя бы даже самого глубокого и целостного мифа. Подлинное религиозное построение мифа есть воплощение мифа. А миф есть настолько всестороннее и глубокое бытие, что воплощение его может быть только жизненным, а не теоретическим воплощением. Воплотить миф в жизни можно только путем соответствующего устроения жизни, т.е. путем обряда и таинства, или, другими словами, только при помощи церкви. Церковь и есть воплощение мифа в жизни. Самое же главное, до чего дошел Шеллинг — это до теории церкви, хотя и тут у него много всяких недоговоренностей и условностей, о которых неуместно говорить в настоящем изложении» (Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 2001.С. 486).
3 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 704—705 (курсив авторский).
4 См. об этом мою статью: Резвых П.В. Критика философии тождества Шеллинга в «Предисловии» к «Феноменологии духа» // «Феноменология духа» Гегеля в контексте современного гегелеведения. М., 2010. С. 135—141.
5 Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С 187.
6 Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. С. 184.
7 Лосев А.Ф. Диалектика мифа… С.480.
8 См, например: Hutter A. Geschichtliche Vernunft: die Weiterführung der Kantischen Vernunftkritik in der Spätphilosophie Schellings. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.
9 См. в особенности переписку Шеллинга с Максимилианом II в кн.: Ehrhardt W. Schelling Leonbergensis und Maximillian II. von Bayern: Lehrstunden der Philosophie. Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1989.
10 См. об этом: Hutter A. Op.cit.

Вы можете скачать Двенадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
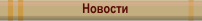
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
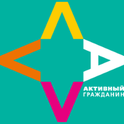
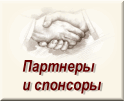


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
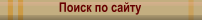
|