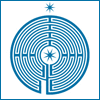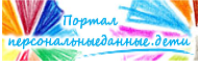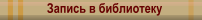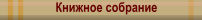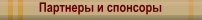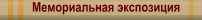Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». Вып. 18
В.Я. Курбатов (Псков). Вопрошатель
(выставка Ю.И. Селиверстова в нашем «Доме»)
Его нет уже 22 года, но он дитя русской мысли и теперь уже ясно, что пока мы хотя бы только поминаем ее (служить-то уж отучились), то мы будем помнить и Юрия Ивановича.
Мы познакомились в самом конце восьмидесятых, когда время было азартно, разговорчиво, полно надежд. Он, кажется, легко забыл свою славу сюрреалиста, иллюстратора Акутагавы, Воннегута, Ануя, даже свои иллюстрации первого после советских лет «Нового Завета» и читал, читал русскую мысль, которая в эти годы явилась золотым сводом после долгих лет изгнания и обещала наше преображение. И портреты мыслителей уже просились из-под его руки дорогим иконостасом пробудившейся души.
Как все мы, он сетовал на суету, но, как магнит опилки, стягивал вокруг себя людские воронки и был счастлив этим кипением, этой мельницей жизни. Ему надо было все время обкатывать мысль. Он забывал, что уже говорил с тобою о том или ином предмете, и так жарко начинал сначала, иногда принося тебе как новость твою же собственную мысль, которая проросла в нем, сошлась с другими и стала так нова и глубока, что ты не сразу узнавал ее. Ему была потребна встречная духовная сила, диалог смыслов, и он искал этого диалога и находил его в действительно могучих собеседниках, будь это М.М. Бахтин, митрополит Антоний Сурожский, В.И. Севастьянов или Г.В. Свиридов. Я не знаю, о чем он говорил с владыкой Антонием или А.Ф. Лосевым, но я видел, что за партией в шахматы (а шахматист он был азартный, и они засиживались за полночь) с В.И. Севастьяновым он исподволь вытаскивал из своего собеседника неожиданные мысли о метафизике космоса. А в беседе с Г.В. Свиридовым, попинывая еловые шишки в дарьинском лесу на неторопливых прогулках, легко ухватывал музыку этого космоса, замечательно угадывая, что раз в русской литературе не было трагедии, ее «полномочия» написал Пушкин, но трагедией ее сделал Мусоргский. Он вообще, кажется, единственный трагик. Эпическое есть у Римского-Корсакова, у Прокофьева, у Бородина, а трагик такой силы, как Софокл, как Шекспир, один – Модест Петрович.
Да и ночами он не только рисовал, а чаще читал и бесконечно много конспектировал. Эти ночные штудии позволяли ему днем уже карандашом легко схватывать далекую мысль и переводить ее в зрительный образ. И приводить в русскую мысль неожиданные для нее фигуры. Так однажды ночью он выпишет из ремизовской книги «Подстриженными глазами»: «Из всех в мою зрительную память врезался неизгладимо Достоевский, и когда я смотрел на его портрет, во мне звучало, потом я узнал этот мотив в щемящих взвизгах Мусоргского». Видно, что эти «щемящие взвизги» почти потрясли художника. Бахтин ему этого знания дать не мог – его мысль шла иначе. А вот когда в тех же дарьинских прогулках он в другой раз услышит от Г.В. Свиридова, что у Мусоргского отчетливее, чем у кого бы то ни было из русских композиторов, слышна не только музыка «рушащихся царств», но и музыка торжества православия, «со смертью которого падет мир», он разом вспомнит и эти «взвизги» из Ремизова, и другую свою запись из того же больного, потерянного эмиграционного Ремизова. И о том же: «…Я из последних сил, как кляча с иссеченными глазами… под навязчивый мотив Мусоргского зубами набрасываюсь на каждый миг моего ускользающего последнего дня».
Беседы, ночные тетради, словно сами собой множащиеся книги, которые, забив полки, разойдутся по столам и, наконец, съедут в мастерской на пол, – все должно было однажды сойтись в каком-то скрепляющем синтезе. Мысль сама должна была потребовать защиты, системы, обдуманной архитектуры, чтобы не соскользнуть в дурную бесконечность, в простое горизонтальное накопление. Когда «стройматериала» накопилось достаточно, пришла пора вспомнить в себе зодчего, началась закладка свода: «…Из Русской думы», где портрет рождался не прежде, чем мысль философа находила место в общем строе народного мировоззрения. Да и то, конечно, не сразу нашлось это точное определение «…Из Русской думы».
В одном из подготовительных набросков этой «Думы» мелькнула в черновиках поразительная, часто потом приводимая им цитата из рукописи монаха отца Онисима, друга В.Д. Пришвиной: «Бог любит не всех одинаково, но каждого больше». В бездонной рукописи этого расстрелянного в 37-м году мудреца, которая еще непременно найдет своего издателя, есть и еще одно дорогое замечание. Оно касается и всякого творца и не особенно ли Селиверстова: «У святого, – пишет о. Онисим, – праведность идет впереди знания, впереди ума, и только в последний день истории ему откроется, как велико его богатство. У художника наоборот умозрение опережает чистоту сердца, потому-то и бывает так, что он знает больше святого и знает достоверно, но не обладает предметом знания, как чем-то своим. Он лишь в отдалении видит его. В этом трагедия творчества».
Не оттого ли художник так взвинчивал мысль и, зная бесконечно много, не находил успокоения, словно знание и впрямь все время казалось временным, не становящимся плотью мировоззрения. «Предмет знания» все оставался «предметом», только указанием на существо явления, но не преображался в само существо. Не зря он шел «по границе церкви», устремляясь в нее в одно время до желания рукоположения. И когда бы не глубокая проницательность митрополита Антония, не благословившего художника на этот чужой ему путь, может быть, и сейчас служил бы где-нибудь на приходе и не ведал покоя, потому что ум был слишком силен и жаден, чтобы не испытывать веру до опасных пределов. Ему было суждено искать ответов на последние вопросы в творчестве, в поисках красоты, которая подлинно спасет мир тем, что становится внутренним созидающим разумом каждого существа и явления.
Он все время искал преодоления ума, преодоления словесного истолкования самоценным символом, молчанием, угадкой. И все время разжигал мысль последними вопросами, где слово начинает метаться в бессилии, где Иван Карамазов, утомясь, уступает испытующему молчанию Алеши и понимает, что все метания диктуются одним, одним неотступным вопросом: «Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики, все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: ‘’Како веруеши али вовсе не веруеши?’’ – вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?»
К этому, к этому сводились и все допрашивания Юрия Ивановича ко всем своим собеседникам и ко всем книгам, которые он читал и, в особенности, которые иллюстрировал. Я, грешный, порой и боялся этого неутомимого вопрошания.
Приезжал я из Пскова рано, а он работал ночами, ложился под утро, и тут-то я его и будил. И ни разу не помню, чтобы он открыл да досыпать пошел. Нет, тотчас на кухню, кофе поставить, и сразу, взъерошенный, в халате, в самую сердцевину своих и общих забот. И тут уж тебе и Достоевский, и Шпенглер, Леонтьев и Данилевский, Россия и Европа – словно это только тело у него просило отдыха, а ум и во сне не прерывал работы и в любой час мог отправиться в любые пределы. И за всем в конце концов неумолимое «како веруеши?» Усталый, я часто разрушал его символические построения, его непременные рифмы всего со всем (так что даже и всякое слово он нетерпеливо рассекал, перевертывал, поднимал к свету и отпускал переосмысленным: судьба – суд Божий, свобода – с обода чего? и т.д.). И теперь, как всегда в таких случаях, жалею, что не дослушал, не досмотрел…
Это подлинно была гонка за тем, что виделось в отдалении, но не находило безусловного выражения. Это ум допрашивал душу о тайне ее полноты и не слышал удовлетворяющего ответа. Может быть, согласно отцу Онисиму, это была трагедия, но все, кто знал Юрия Ивановича, в голос скажут, что это была трагедия радостная, потому что путь – для него был дороже итога. Может быть, когда бы он был только иллюстратором, он задохнулся бы от невозможности перевести все свое знание в изображение. Но он был мыслителем и искал синтеза слова и портрета, формулы и рисунка, лица и Лика. Когда и слово не давало необходимых оттенков, он брал глину или вспоминал храмовую архитектуру. Он знал главное: что красота, правящая миром, есть Христос, и если его работы не достигали этой всеисполняющей красоты, то они все-таки были путем к ней. Может быть, он часто шел поверху, и печаль его не достигала глубины покаяния, а душа не возвышалась до властных велений Духа, но он умел всякое слово наполнить любовью и заразительной искренностью, так что и заблуждение было только неузнанной, но никак не искаженной правдой.
Пока он был жив, все казалось – вот идет рядом, и все как-то легко и надежно. Все на ходу и до результатов еще идти и идти. А вот ушел, и, оглядевшись в сделанном им, я вижу, как далеко впереди спокойно идет он в кругу тех, кого он жадно читал, кого рисовал как учителей и собеседников. И они уже вместе, и есть родная спасительная русская мысль, русская культура, русская Церковь.
И теперь ясно видно, что он только вышел в свой настоящий путь в кругу своих пророков, учителей и провидцев, своих небесных товарищей по неотступной русской думе, и дорога его далека…
В.Я. Курбатов рассказывает о Ю.И. Селиверстове
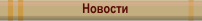
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
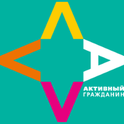
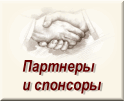


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
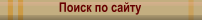
|