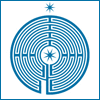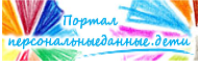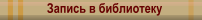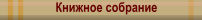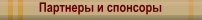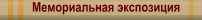Бюллетень. Номер шестнадцатый.
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ. IV
Михаил Громов
(Россия, Москва, Институт философии РАН)
Экзистенциальный аспект творчества Ивана Бунина
Для Ивана Бунина с юных лет характерна страсть к переживанию бытия, к цветущей, переливающейся многоцветием красок и одурманивающей сладостью ароматов единственной и неповторимой реальности, в которой проступает «божественное величие мира». Его пленяет красота осеннего леса, стоящего «как терем расписной». Его манит сказочный Восток, откуда начала свою мерную поступь «величавая колесница человечества». Он с трепетом ступает по Святой Земле и с дрожью прикасается к ее святыням.
Всем пылким существом поэт наслаждается тварным миром, но замечает при этом:
Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия[1].
Апогеем чувственного переживания реальности для Бунина стала любовь к женщине — к этому наисладчайшему соблазну тварного мира, к этой воплощенной в обольстительные формы изменчивой неуловимости бытия, к этой пряно-восточной Майе, увлекающей в пучину радости и страданий. «Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь». Подобную запись, относящуюся к 1889 г., он мог бы не один раз сделать в своих автобиографических заметках[2]. Любовь к женщине для Бунина раскрывает целую вселенную переживаний, страданий, упоений и того особого, невыразимого ни в каких словах, красках и звуках слияния с бытием, соития с жизнью, растворения в ней, которое приносят лучшие мгновения любви, когда всё кажется сном и вместе с тем наиподлиннейшей реальностью.
Философ Иван Ильин в блестящем очерке «О тьме и просветлении» тонко уловил эту бытийственную сторону жизни и творчества Бунина, «художника чувственного естества» с «ненасытным восприятием жизни». Он, несомненно, прав; действительно, «в изображении чувственной страсти Бунин стоит в первых рядах мировой литературы»[3]. Любой читатель произведений в стихах и прозе нашего чувственного гения может это подтвердить. Немудрено догадаться, что построены они на собственном эмоциональном опыте, на мастерски воплощенных писательским пером тех уловленных зорким взглядом художника нюансах и деталях, которые невозможно выдумать, не зная всех тонкостей любовной игры, того «рокового поединка» между мужчиной и женщиной, который они ведут в желании обладать друг другом.
Иван Алексеевич с полным основанием называет себя «эротоманом». Но, разумеется, не в том пошловатом смысле, который подразумевает современное массовое сознание. Бунин — поклонник Эроса в возвышенном, вертеровском духе. Его увлечение женской красотой созвучно страстному упоению Гёте, который на закате долгой жизни, почти на смертном одре, не мог не влюбиться в юное создание, олицетворявшее всю прелесть уже тускневшего в его глазах тварного мира. Если же взглянуть поглубже, то бунинская тяга к красоте, восхищение ею перекликаются с учением об Эросе Платона, чьи сочинения и мысли его весьма привлекали[4].
Однако через женщину Бунину открывались не только красота и гармония мироздания. Страшная тайна глубин бытия, темные инстинкты, жестокость и насилие, лицемерие и коварство, предательство и смерть — всё это тоже связано с любовью, с тем, что ее сопровождает, что от нее неотделимо. Онтологическая связка «любовь-жизнь-смерть» прочувствована им во всей полноте. Через облагороженную и выхолощенную цивилизацией яростную первобытность половых отношений Бунин ощущает ужасающую пропасть мрачной бездны, готовой поглотить его. Что тут мелкие бытовые сцены, интеллигентские терзания, бесхитростные страдания простолюдинов, даже запальчивые убийства неверных жен и самоубийства благородных офицеров, — тут пасть самого Сатанаила разверзается перед человеком, когда не только тело, но и душа оказываются на краю погибели.
Бунин прекрасно показывает эту сторону бытия в повести «Суходол», где «провиненный монах», изгнанный за непотребное поведение из Киевской лавры, бесстыжий ерник Юшка, как бес блудливый, грубо овладевает дворовой девкой Натальей в жуткую предгрозовую ночь под Илью-пророка (языческую Перунову ночь); и она не в силах противиться ему, как не смела противиться барыня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, лишь только вопила диким голосом: «Змей эдемский душит меня!»
Светлая сторона любви реже занимала внимание Бунина, ибо он к чисто духовному аспекту бытия стремился мало. Он слишком увяз в чувственном темном мире, чтобы легко порвать с ним и уйти в лазурную страну небесного света. Но все же на периферии описания треволнений живущего страстями рода людского светлая безгрешная сторона бытия проступает у него в образах старцев, подвижников, в очертаниях святых обителей, где веками спасались на Руси от гибельных страстей буйные грешники и тихие грешницы.
Выбор в пользу светлой стороны жизни делает героиня «Чистого понедельника». Прекрасная молодая женщина, поддавшись искушению, испив лишь малую чашу земного наслаждения, уходит в монастырь, постригается в иноческий образ. Какой-то внутренний инстинкт самосохранения, тяга к древнерусской старине, к старообрядческой крепости духа заставили ее обратиться к Тому, Кто есть «Господь, Владыко живота всех». И там, где душа встречается с Богом, уходят в прошлое и внешний лоск, и суетные желания, и мишура светской жизни, и томления плоти.
Что поразительно, в роли рокового искусителя героини, личности неординарной, выступает в общем-то заурядный, хотя и образованный, молодой повеса с горячей кровью и хорошими манерами, страстно в нее влюбленный. Но является он, подобно дьявольскому персонажу из древнерусского сказания о Петре и Февронии, в сокрытом, им самим не осознаваемом существе: «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном»[5].
Это прозрение, эта догадка, как молния, освещает всю библейскую глубину их отношений, как исконный соблазн Адама и Евы, как общечеловеческую драму, нескончаемо длящуюся от сотворения человека до наших дней. Ведь и сейчас, и во времена оны, и всегда сквозь внешнюю бытовую повседневность, обыденность происходящего проступает извечный трагизм человеческого существования в оппозиции «он — она».
Бунин в своем творчестве выступает как художник-мыслитель экзистенциального типа, он помещает героев в пограничные ситуации, видит трагизм бытия и последствия человеческого выбора, когда личность на краю бездны остро ощущает шаткость своего существования, балансируя между тропою жизни и пастью смерти, от которой ее отделяет всего лишь один короткий шаг.
В этом он подобен Достоевскому, который описывал весь потаенный ад человеческой души и борьбу в ней божественного и дьявольского начал. Только в отличие от героев Федора Михайловича персонажи Ивана Алексеевича чаще всего наделены отменным здоровьем, ясностью ума и вкусом к жизни и, разумеется, существенно не похожи на страдающих болезненной патологией, неврастенических, много, длинно, тягостно рассуждающих и непредсказуемо поступающих личностей, которые населяют страницы произведений нашего главного предтечи экзистенциализма.
[1] Бунин И.А. Несрочная весна. Стихотворения. Избранная проза. М., 1994. С. 45. Написано тридцатилетним поэтом в 1901 г.
[2] Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1967. С. 260.
[3] Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. М., 1991. С. 52. Ильин видит в Бунине не только «мастера внешнего зрения», способного с «физиологической точностью описывать человеческие страсти», а в его творчестве не только «художественный возврат инстинкта к природе», но и древнюю, первобытную, apxетипическую сущность инстинкта жизни: «Бунин разверзает перед нами мировой мрак, черное, провальное естество человеческой души, не ведающее добра и зла и творящее зло в меру своей похоти. Он разверзает его с великою силою, художественной наглядностью и холодной точностью» (Там же. С. 77). Сам же Бунин в автобиографической «Книге моей жизни» говорит о близости к предкам, о глухой «прапамяти», об иррациональном чувстве переживания «всебытия»: «Рождение никак не есть моё начало. Моё начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, где, однако, многое повторилось почти до тождественности» (Цит. по: Мальцев Ю. Иван Бунин (1870—1953). М., 1994. С. 8).
[4] В холодной, страшной, обезлюдевшей Москве зимой 1918 г. на фоне разрухи, хаоса, дикого зверства и разрушения культуры Бунин, подобно многим гибнущим соотечественникам, обращается к нетленным духовным ценностям: «И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю “Пир” Платона» (Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1991. С. 103). Влияние платоновской традиции, прослеживаемое в истории отечественной культуры и философии, ощущается и в творчестве Бунина. Кроме учения об Эросе, oно проступает в интерпретации знания как припоминания души (анамнезис), в номадическом странствии духа по земным тропам и его устремлении к небесному праотечеству, в поклонении Софии как Божественной Премудрости, в культе Логоса и Слова, одному которому «лишь жизнь дана», ибо «на мировом погосте звучат лишь Письмена» (Бунин И.А. Несрочная весна. С. 22).
[5] Бунин И.А. Несрочная весна. С. 407. «Повесть о Петре и Февронии», иногда называемая «житием», — одно из самых поэтических преданий русской старины, рассказывающее о любви князя и крестьянской девушки, отличавшейся прозорливостью и чистотой нрава. Оно созвучно западноевропейским сказаниям о Тристане и Изольде, о битве Сигурда со змеем Фафниром, воплощением дьявольского, похотливого, злого начала мира. В христианской традиции к ним примыкает «Чудо св. Георгия о змие», вариации на темы которого столь многочисленны в отечественном и европейском искусстве и которые восходят к древним хтоническим мифам (см.: Повесть о Петре и Февронии Муромских // Изборник: Сб. произведений литературы Древней Руси. М., 1969. С. 454—463; Чудо Георгия о змие // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 520—527).

Вы можете скачать Шестнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
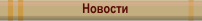
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
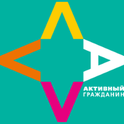
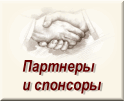


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
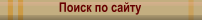
|