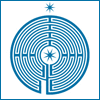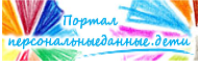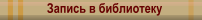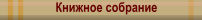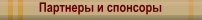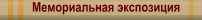Бюллетень. Номер шестнадцатый.
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ. IV
Роберт Бёрд
(США, Чикаго, Чикагский университет)
От Аристофана до Нового Гулливера:
Сатира в ранней советской культуре
Несмотря на все достижения последних веков в области истории и теории литературы, многие ключевые понятия и категории остаются невыясненными в своем корне. Наиболее радикальные сомнения, пожалуй, вызывает понятие «жанр», которое обозначает категории совершенно различного объема (например, жанром может считаться поэзия, лирика, любовная лирика, сонет, шекспировский сонет, и т.д.) и онтологического статуса (жанр может быть величиной исторической и национальной или вечной и универсальной). Нигде эта невыясненность жанра не проявляется с большей наглядностью, чем в теории М.М. Бахтина о «менипповой сатире», которую Бахтин сначала конструирует на определенном историческом материале и потом возводит в универсальный надысторический принцип литературного творчества, наблюдаемый в самых разных проявлениях — от драмы до романа. Сатира, пишет Бахтин, «может пользоваться любым жанром — эпическим, драматическим, лирическим; мы находим сатирическое изображение действительности и различных ее явлений в мелких фольклорных жанрах — в пословицах и поговорках <…>, в народных этологических эпитетах <…>, в народных анекдотах, в народных комических диалогах <…>, в мимах, комедиях, фарсах, интермедиях, в сказках <…>, в песенной лирике <…> вообще в лирике <…>, в новеллах, повестях, романах, в очерковых жанрах»[1]. Цель настоящей заметки — прояснить некоторые контексты для теории Бахтина в советской культуре и науке 1920-х и 1930-х годов и, на основе этой контекстуализации, наметить контуры нового прочтения этой теории.
Парадокс жанра у Бахтина наглядно показан в следующем месте из «Проблем поэтики Достоевского» (1963): «В жанре всегда сохраняются неумирающие элементы архаики. Правда, эта архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее обновлению, так сказать, осовременению. Жанр всегда и тот и не тот, всегда и стар и нов одновременно. <…> В этом жизнь жанра»[2]. При этом сатира играет особенно важную роль в этой диалектике жанра, будучи своего рода вирусом, вселяющимся в любой жанр и обновляющим его изнутри: «Сатирический момент вносит в любой жанр корректив современной действительности, живой актуальности, политической и идеологической злободневности»[3]. В своем многообразии сатира даже определяется у Бахтина как «анти-жанр». Единство сатиры, согласно Бахтину, заключается не в ее исторически существующих формах, а в ее причастности к надысторическому началу смеха или, точнее, «народнопраздничного смеха». В новое время, считает Бахтин, «народно-праздничный смех» утрачен; в новое время сатирик знает «только отрицательный смех, ставит себя вне осмеиваемого явления, противопоставляет себя ему, — этим разрушается целостность смехового аспекта мира, смешное (отрицательное) становится частным явлением»[4].
В своих главных чертах теория сатиры у Бахтина восходит к теории трагедии у Ф. Ницше, наиболее авторитетным приверженцем которой в России был Вяч. Иванов. Согласно Ницше и Иванову, Дионис представлял хаотическую и стихийную силу, которая вечно противится человеческим категориям и обновляет их путем экзистенциального очищения. В таких работах, как «Роман-трагедия Достоевского», Иванов полагал наличие трагического начала и в недраматических родах литературного творчества. После революции Иванов также применил основы своей теории катартической трагедии к прочтению сатирических драм Аристофана и Н.В. Гоголя, которые добиваются очищения путем смеха. Иванов цитирует «Театральный разъезд», где Гоголь выражает желание, чтобы «все потряслось снизу до верху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились, как братья, в одном движении»[5]. Иванов возводит гоголевскую комедию к Аристофану, а Аристофана к «карнавальному обычаю потешных музыкально-декламационных выступлений перед собравшимся в театре народом с вольными шутками и насмешливым, порою издевательским зубоскальством над ним, как собирательным лицом, его политикою и правами, его выборными правителями и партийными вожаками, его именитыми, влиятельными или иначе заметными людьми»[6]. Как у Аристофана, так и у Гоголя комедия осуществляет связь между сценой и общиной посредством хора. Как трагедия, так и комедия «нуждалась в хоре, как в художественном выражении общественной идеи, как в символе самого народа, глядевшегося в свое комедийное отражение <…> Народ комедийного Города и мы, народ, собравшийся на зрелище, — одно и то же: ведь мы, по мысли поэта, в зеркало глядимся, над собою самими потешаемся. Те маски на сцене — мы сами, ряженые, в лице нашей представительной группы. И в то же время мы различны: мы, зрители, возвышаемся над нашими личинами и преодолеваем их, поскольку сознаем их собой и в них над собою смеемся»[7].
В Советском Союзе катартическая теория комедии была подхвачена с особым увлечением молодым последователем Иванова, А.И. Пиотровским, который в предисловии к своему переводу Аристофана подчеркивает генетическую связь между «хоровой комедией» и древним обрядом[8]. Пиотровский возводит комедию Аристофана к карнавалу: «Некая перевернутость природных отношений, при которой звери становятся на место людей, молодежь на место стариков, женщины на место мужчин, эта фантастическая перевернутость образует основу карнавальных празднеств, распространенных по всему Востоку <…>. Из “перевернутости привычных отношений” рождается “сдвиг”, придающий карнавалу могучую силу жизнерадостности, пафос победы над буднями, легкость и блеск»[9].
В свете параллелей с Ивановым и Пиотровским, теория Бахтина производит впечатление очередной модернистской схемы, возводящей отдельные исторически наличные формации словесного творчества в надысторические принципы. Однако, помимо современной литературной теории, необходимо учесть также и современный литературный контекст теории Бахтина. Ведь на протяжении 1930-х годов шли поиски новой сатиры в советской литературе, кино, графике, а также в литературной и художественной критике. В этом контексте теория Бахтина приобретает нехватающую ей историчность.
В жесткой иерархии социалистического реализма каждый жанр имел достаточно определенное место и мыслился как нечто вполне законченное. При этом сатира занимала одну из нижних ступеней в этой иерархии. В качестве авторитетного определения сатиры приводились слова М. Горького: «Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагу, как существу низшего типа, а не на возбуждении страха пред силою его цинизма, его жестокости <…> Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это — дегенерат, вырожденец физически и “морально”»[10]. Поэтому, согласно Горькому, сатира может быть только отрицательной, направленной на истребление порока: «Социальные пороки должны быть показаны в легкой сатирической форме как отвратительные и смешные уродства»[11]. Неприемлемой была сатира, изображающая гедонистическое излишество. Советский Рабле был бы невозможен. В заметках о сатире Бахтин признает лишь два примера удачной советской сатиры: лирику Маяковского и прозу Ильфа и Петрова: «Наша сатира вообще непосредственно связана с действием и подготовляет его; она может быть и должна быть прямым сигналом к действию»[12]. Однако похоже, что время такой сатиры прошло после 1930 г., когда умер Маяковский и вышел из печати «Золотой теленок». Бахтин заявляет, что «изображение нашей современной действительности менее всего может быть образом, отрицающим ее»[13].
Заявление об отсутствии советской сатиры явно противоречит теории Бахтина о всепроникающей природе этого жанра. К тому же, Бахтин отрицает возможность чисто отрицательной сатиры: «Сатира есть образное отрицание современной действительности в различных ее моментах, необходимо включающее в себя — в той или иной форме, с той или иной степенью конкретности и ясности — и положительный момент утверждения лучшей действительности»[14]. Эта «стихийная диалектичность» сатиры коренится в природе смеха («смех по самой природе своей глубоко неофициален: он создает фамильярный праздничный коллектив по ту сторону всякой официальной жизненной серьезности. Чучело, кукла, механизм — это развенчанная серьезность»[15]), а также и в своеобразной пространственности сатиры: «<…> то пространство, в котором кувыркаются, падают, дерутся клоуны, выскакивает чертик на пружине, движется картонный плясун, нарастает снежный ком, — пространство топографическое, где верх и низ (и другие направления) имеют абсолютное значение; нельзя понять все эти явления вне той арены, той площадки, где они совершаются, вне телесно-космических координат их»[16]. Эта пространственность присуща и поэзии Маяковского, гиперболизм которого отражал стремление «найти зримое, образное, историческое пространство для изображения, пространство с новыми масштабами, с новым распределением вещей и людей»[17]. Поиски такой перспективы, которая бы позволяла видеть космическое в масштабе интимного, заставили Маяковского отменить «среднюю дистанцию» как пережиток буржуазной культуры, буржуазного хронотопа; в поэзии Маяковского «достигнуто слияние [крупного и мелкого плана] в новом едином плане, в новом едином кругозоре <…>. Большое — это не статическое, вечное, неизменно большое. Это — становящееся, историческое, растущее большое. Надо нащупать конкретное историческое пространство для показа-изображения этого большого. Нужно перестроить поэтический образ в сфере новых масштабов и измерений»[18]. Присущая сатире двойственность отрицательного и положительного, телесного и воображаемого, старого и нового оказывается созвучной двойной перспективе соцреализма. Дело сатиры — предоставить площадку, на которой совершается смена масштабов и перспектив, необходимая для того, чтобы социализм стал зримой реальностью.
В заметках Бахтина о Маяковском слышится отзвук широкого интереса к «Путешествиям Гулливера» Джонатана Свифта в советской культуре 1930-х годов[19]. В издательстве Academia роман Свифта выдержал три издания (1928, 1930, 1932) и проник глубоко в советскую сатиру (см. автомобиль «Антилопа» в «Золотом теленке»), детскую литературу (главным образом, в литературных пересказах Николая Заболоцкого и Тамары Габбе), а также и элитную литературу[20]. В своих советских переложениях Гулливер часто представал как разносчик революции, чаще всего в страны реакционных и невежественных лилипутов, которые являются «низшими типами» (как требовал Горький) в самом буквальном смысле. Таким образом, как констатировал Андрей Битов, в советском культурном сознании Гулливер стал неотличим от Робинзона Крузо[21]. Поскольку история Гулливера стала чисто отрицательной сатирой (чаще всего ограничиваясь пребыванием у лилипутов), постольку головокружительная смена масштабов и перспектив часто сводилась к привычной сталинской гигантомании.
Тем не менее, в Гулливере продолжал ощущаться и «положительный» полюс сатиры, чем он настораживал таких бдительных культурных бюрократов, как П.С. Коган, автор предисловия к изданию «Academia», который писал с ужасом: «Всё зависит от того, откуда смотреть, снизу или сверху. Красота становится уродством и уродство красотой, добродетель пороком и преступление героизмом — всё дело в точке зрения. <…> И трудно решить, смеется ли автор над читателем или он действительно исполнен серьезных намерений. Странная книга! В ней всё текуче. В ней самые противоречия сталкиваются, переплетаются, приобретают новые очертания, расходятся и сливаются»[22]. При этом, как отмечал Сигизмунд Кржижановский, искажение перспективы у Свифта не противоречит требованию реализма: «Свифт, как истинный художник, позволяет себе только по одному разу нарушить меру — уменьшить или увеличить тела людей, в окружении которых живет его герой. В дальнейшем он чрезвычайно точен и нигде не отступает от реалистической манеры письма»[23].
Невозможность зафиксировать «телесно-космические координаты» и четко отграничить идеологическое от кошмарного в мире Гулливера подтверждается также и в мультфильме А. Птушко «Новый Гулливер» (1935), в котором юному пионеру Пете снится, будто он попадает в страну лилипутов и зажигает революцию среди чернорабочих против тиранического и идиотического короля и его палачей. Казалось бы, всё ясно, если бы не джазовые песни композитора Льва Шварца, которые смеются над гедонистическим декадансом лилипутии (т.е. капиталистического Запада) и, заодно, дают зрителю возможность хотя бы немного насладиться запретным плодом. Главный номер «Моя лилипуточка» якобы стал хитом года в Советском Союзе. Именно здесь, после исполнения «Моей лилипуточки», начинают смещаться масштабы и перспективы в изображении Лилипутии: ведущий выводит труппу еще меньших людей, лилипутских карликов, которых под кнутом заставляют танцевать. Оказывается, что масштаб — всегда вещь относительная и зыбкая, зависящая от используемой меры и перспективы. Эта относительность и зыбкость наличествуют даже при таком строго регламентируемом эстетическом режиме, как соцреализм.
Танец лилипуточек — именно такой хоровой танец, из которого Вяч. Иванов и Адриан Пиотровский выводили древнюю драму, в которой открывается возможность свободы даже внутри тиранического общественного строя. В лирическом танце обретается правда, способная перевернуть «привычные отношения» и ценности; «ведь люди в большей своей части куклы и лишь немного причастны истине»[24].
Следовательно, даже если теория Бахтина о менипповой сатире неисторична и теоретически несообразна, она участвует в обширном и сложном процессе становления новой советской сатиры 1930-х годов. Теория Бахтина является не столько научным объяснением исторически наличной сатиры, сколько механической моделью для производства сатирических смыслов из советской гигантомании 1930-х годов, для производства Гулливеров из советских Робинзонов. От Бахтина эта практическая задача потребовала отказа от напускной серьезности Иванова и Пиотровского и верности тому игровому началу, которое он усматривал в основе сатиры. Таким образом, даже нейтральное пространство историко-литературных исследований становится площадкой для политического действия.
[1] Бахтин М.М. Собр. соч. М., 1996—. Т. 5. С. 11—12.
[2] Там же. Т. 6. С. 120.
[3] Там же. Т. 5. С. 12.
[4] Там же. Т. 4. Кн. 2. С. 21.
[5] Иванов В.И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Брюссель, 1987. С. 390.
[6] Там же. С. 392.
[7] Там же. С. 393, 394.
[8] Аристофан. Комедии. 2 тт. М. — Л., 1934. Т. 1. С. 25—26.
[9] Гвоздев А.А., Пиотровский А.И. История европейского театра. М. — Л., 1931. С. 74, 76. Бахтин приводит эти рассуждения с непонятным осуждением.
[10] Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949—1955. Т. 25. С. 174.
[11] Там же. С. 175.
[12] Бахтин М.М. Указ. соч. Т. 5. С. 38.
[13] Там же. С. 34.
[14] Там же. С. 15.
[15] Там же. С. 50.
[16] Там же.
[17] Там же. С. 55.
[18] Там же. С. 56, 59.
[19] Определяя жанр «Путешествий Гулливера» как смесь менипповой сатиры и «жанра фантастических путешествий», Бахтин отверг роман Свифта наряду с другими сатирами эпохи Просвещения, в которых не хватало «положительного полюса». Однако, как мы уже видели, Бахтин сам отрицал даже возможность чисто отрицательной сатиры (Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 5. С. 25, 44).
[20] См. также: Кржижановский С. Моя партия с королем великанов // Кржижановский С. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 2001—2010. Т. 3; Он же. Гулливер ищет работы // Там же; Борн Г. Гулливер у арийцев. М., 1936; Козырев М. Пятое путешествие Гулливера и другие повести и рассказы. М., 1991; Левидов М. Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. М., 1939.
[21] Битов А. Новый Гулливер (Айне кляйне арифметика русской литературы). Tenafly, NJ, 1997. С. 22.
[22] Коган П.С. Предисловие // Свифт Дж. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Пер. А.Ф. Франковского. Вступ. статья Э.Л. Радлова. Л., 1930. С. VII—VIII.
[23] Кржижановский С. Собр. соч. Т. 4. C. 137.
[24] Платон. Законы. 804b (перевод А.Н. Егунова).

Вы можете скачать Шестнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
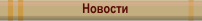
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
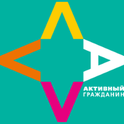
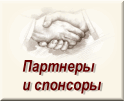


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
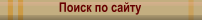
|