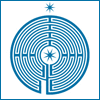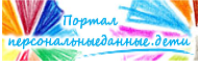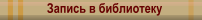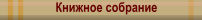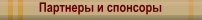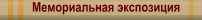Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации
Михайлова М.В. «Бесы» Ф.М. Достоевского в художественном освоении и теоретическом осмыслении Г.И. Чулкова
Творчество Ф.М. Достоевского после относительного забвения в 80-е годы XIX в., обусловленного вульгаризаторской и узкосоциологической интерпретацией его произведений народнической критикой (определение«жестокий талант», , данное Н.К. Михайловским, тиражировалось многими изданиями), вновь оказалось в центре внимания на рубеже XIX–XX веков. Это было вызвано необходимостью для вступивших на литературную арену символистов и богоискателей найти свои корни не только в мировом пантеоне культуры, но и в русском ареале. Для символистского истолкования более всего «подошли» Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев и Ф.М. Достоевский. О Достоевском заговорили как о предтече «нового религиозного искусства», в его произведениях стали искать и акцентировать «пророческие» прозрения. Об этой ситуации очень точно сказал Н.А. Бердяев: «Когда в начале ХХ века в России возникли новые идеалистические и религиозные течения, порвавшие с позитивизмом и материализмом традиционной мысли радикальной русской интеллигенции, то они стали под знак Достоевского»1. Его итоговое суждение прозвучало вполне категорично: «<…> все связаны с Достоевским, все зачаты в его духе, все решают поставленные им темы»2. Достоевский становится знаковой фигурой и как художник, предвосхитивший конфликты и катаклизмы эпохи, уловивший «динамизм» времени, выразившийся в череде общественных катастроф, и как философ, увидевший «распад» личности, оказавшейся перед лицом тяжелейшего нравственного выбора. С.Н. Булгаков прямо признавал, что «великий дух Достоевского уловил все основные особенности нового мировоззрения <…> следы <…> напряженной и страстной думы сохранились во многих его художественных произведениях <…>»3. И среди важнейших он назвал роман «Бесы».
Идеи и образы Достоевского проникли в художественную ткань многих произведений начала ХХ в., прямые или скрытые цитаты возникали на их страницах иногда даже на уровне бессознательных заимствований. Современный исследователь назвал это явление «компетентным присутствием»4. В работах религиозных философов начала ХХ в. актуализировалось понимание писателем источников человеческого поведения как продиктованного высшими законами, устанавливалась принадлежность его одержимых идеей героев к метафизической сфере. Также отчетливо обнажалась осознанная художником опасность революционного волюнтаризма, свойственная русским готовность во имя великой идеи пожертвовать жизнями тысяч людей. А в творчестве писателей (З. Гиппиус, Андрея Белого, В. Ропшина, А. Ремизова, Ф. Сологуба) в обстановке нарастающей общественной нестабильности, готовящейся схватки «униженных и оскорбленных» со своими поработителями не менее значимым, чем психологический, становился и социальный диагноз Достоевского, данный им человеку, возомнившему, что ему «все позволено» ради достижения земного рая. Голый рационализм, начинавший торжествовать в программах партий, порождал фанатиков, подталкивал к террористическим актам, служил оправданием феномену провокаторства. Так, в произведения писателей Серебряного века «перекочевали» персонажи Достоевского, примерившие на себя уже новые «маски», произошло скрещивание «петербургских мечтателей» с «парадоксалистами», а «русскую идею» стали примерять к себе не только «русские мальчики», но и националисты всех мастей.
Отдельные аспекты темы «Достоевский и Серебряный век» уже рассматривались в современном литературоведении, однако творчество Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939), поэта, прозаика, драматурга, критика, журналиста, видного деятеля символистского движения, оставившего богатое литературное наследие, в недостаточной мере привлекает исследователей. Уже до революции вышло его шеститомное Собрание сочинений, причем в него вошло далеко не все, что было им опубликовано в различных изданиях. А потом еще почти 20 лет, уже при советской власти, он регулярно печатал исторические исследования («Императоры», «Мятежники 1825 года»), занимался изучением творчества Пушкина, Достоевского, Тютчева, публиковал романы, рассказы, очерки, корреспонденции, воспоминания. При этом многое при жизни Чулкова так и не увидело свет5 (по причине цензурных запретов, а порой сам автор считал невозможным даже предлагать к печати произведения, в которых отчетливо прочитывалось его христианское миросозерцание, сформировавшееся во многом под влиянием Достоевского).
Достоевский как писатель, философ, религиозный деятель занимает важнейшее место в наследии Чулкова6, что во многом помогает понять эволюцию творчества этого художника, особенности его письма. Рассмотрение обозначенной в названии статьи темы важно также для понимания вопроса о традициях, подражании, заимствовании, ученичестве и прочее, ибо вряд ли найдется другой художник, кроме Чулкова, в творчестве которого апелляция к манере Достоевского была бы столь очевидной, явной, не маскируемой никакими другими художественными ухищрениями. На самом раннем этапе творчества Чулков опубликовал в сборнике «О мистическом анархизме» (1906) работу «Достоевский и революция», в которой выступил оппонентом суждений Мережковского о писателе. Затем предъявил плоды своих раздумий (включив Достоевского в христианскую традицию в духе антропологии, восходящей к учению Паскаля) в публичной лекции «Достоевский и современность», которую читал перед различными аудиториями на протяжении нескольких лет. А в 1918 г. подытожил размышления о Достоевском в работе «Достоевский и судьба России». В начале 1930-х годов он создал биографический роман-исследование «Жизнь Достоевского», который относится к излюбленному им жанру духовных биографий, т.е. таких, где отчетливо выявлено религиозное мировоззрение писателя и самого автора (такой биографией стала чулковская «Жизнь Пушкина», в отдельном издании 1937 г. буквально изуродованная цензурой). Текст романа хранится в Отделе рукописей ИМЛИ7. Три рецензента – Б. Томашевский, В. Кирпотин и В.С. Любимова – дали в целом положительную оценку рукописи и предложили ее к публикации, правда, с определенной редакторской правкой. Рецензенты не уловили или сделали вид, что не поняли религиозный подтекст исследования (в период написания этой вещи Чулков, чтобы напитаться атмосферой, окружавшей Достоевского в период создания «Братьев Карамазовых», даже посещал Оптину Пустынь). Они увидели, что автор постарался «реабилитировать» Достоевского, дав иное, чем было принято в 1930-х годах, толкование тем или иным фактам, однако постарались, насколько возможно, затушевать это. Томашевский предложил только удалить слишком подробное «изложение ветхозаветной истории»8, вложенное в уста дьякона. В. Кирпотин же вообще практически воздержался от замечаний и похвалил автора за то, что тот уклонился от «ответов на те вопросы, которые еще не были решены или решены были в идеалистическом духе», и согласился с выводом Чулкова относительно двойственности Достоевского, который действительно так и не сумел разрешить «даже для самого себя раздиравших его внутренних противоречий»9. Наиболее верный ход для написания доброжелательного отзыва нашла В.С. Любимова, которая предложила анализировать роман именно как художественное произведение. Это в какой-то мере избавило ее от необходимости предъявлять Чулкову претензии идеологического характера, поскольку он создавал, по ее убеждению, образ писателя, следовательно, идеи Достоевского рассматривались автором как его переживания: «Чулков рисует образ необычайного, очень одинокого и очень искреннего человека с противоречивыми страстями, все доводящего до крайности, рисует характер гения, постигшего все “глубины души человеческой” и одержимого идеей об “оправдании человека”, плененного образом “совершенного человека”». Но и она не могла не ощутить «скрытую полемику» автора, очевидные «следы его личных симпатий и антипатий»10, которые, по ее мнению, сквозят в характеристике взаимоотношений Достоевского и Белинского, неверной трактовке «Бесов», излишнем сближении Достоевского и Вл. Соловьева.
Машинопись носит следы внесенной Чулковым правки, после чего ее дали, по-видимому, еще одному рецензенту, носящему говорящую фамилию В. Другов (литературовед с такой фамилией неизвестен), чей отзыв больше похож на скрытый донос. Он опроверг все положительные характеристики рецензентов и не посчитал правку Чулкова хоть сколько-нибудь удовлетворительной. Его мнение было однозначным и безапелляционным: основные положения работы являются «спорными и неверными», «усиленно раздут конфликт» между Достоевским и Белинским, не выявлено «беспримерное проявление мести» Достоевского по отношению к Тургеневу, неверно представление Чулкова о том, что «синтез» Достоевского – это «социализм со Христом, и поэтому он всем чужд и безмерно одинок». «Отсюда, – пишет В. Другов, – придется предположить, хотя прямо Г. Чулков этого нигде не скажет, что “прозрения в масштабе тысячелетий” касаются как раз проблемы социализма без Христа и тем самым не очень благожелательно затрагивают наши дни» (курсив мой. – М.М.). После высказанных замечаний (а было их довольно много, и все одного и того же плана) последовал вывод относительно «методологии» чулковского исследования: вся работа «написана в этом стиле: осторожных умолчаний, гибких формулировок с затаенным смыслом, поскольку это касается проблемы отношения Достоевского к революционному движению и к наиболее прогрессивным тенденциям русской литературы». Поэтому автор и не смог создать облик писателя, «рожденного русской действительностью», жившего «с постоянно кровоточащей раной» от «измены своим прежним заблуждениям»11. Стало ясно, что романизированную биографию Достоевского издать не получится, и Чулков, удалив из нее беллетристические моменты, оставил лишь литературоведческий комментарий к жизни писателя, и книга под названием «Как работал Достоевский» вышла из печати в 1939 г. в серии «Творческий опыт классиков» уже после смерти автора. К счастью, автору удалось частично сохранить то, за что его критиковали рецензенты.
Достоевский был для Чулкова художником, соединенным символистской «цепью» с Данте, Ибсеном, Вл. Соловьевым. Кстати, идеям последнего Чулков остался верен до конца своих дней, явив собою едва ли не последнего «соловьевца» на советской земле. Не случайна поэтому сцена, венчающая роман: «Среди почитателей Достоевского, которые выносили из церкви гроб, выделялся один нескладный, высокий молодой человек, необычайно бледный. Это был Владимир Соловьев. У него были странные глаза. Трезвым людям казалось, что это сумасшедший, который видит то, чего другие не видят»12 (выделенные курсивом слова вписаны рукой Чулкова; по этому поводу В. Другов ядовито заметил, что исправления внесены с целью «обеспечить цензурность текста»13).
И нет ничего удивительного, что свой первый роман «Сатана» Чулков создает «с оглядкой» на Достоевского. Роман написан от лица повествователя, жителя городка, где разворачивается действие. По мнению рецензентов, он оказался самым «бездеятельным и ненужным лицом»14 в повествовании (но стоит напомнить, что подобные упреки нередко приходилось выслушивать и самому Достоевскому). А вообще, по поводу этого произведения Чулкова в критике разразился буквально скандал: раньше не было принято афишировать заимствования, а тут перепевы «Бесов» и «Братьев Карамазовых» подаются абсолютно откровенно. Только один критик похвалил автора за то, что он «умело претворил лики Достоевского в современные лица, по-своему и оригинально создал трепещущих нынешнею жизнью людей и полную огня и движения интригу»15. Остальные же не пожелали заметить, что это было не бессовестное «копирование», а тщательно продуманный прием: «помещение» известной литературной фабулы в новые исторические обстоятельства. Писатель опирался не столько на события современной ему действительности (они представляли собой поверхностный слой произведения), сколько на сюжетную канву «Братьев Карамазовых» и политическую атмосферу «Бесов», которые «пришлись впору» событиям общественной и политической жизни России середины 1910-х годов. И может быть, именно использование известных литературных ходов, их наложение на тенденции исторического развития России способствовали занимательности романа и определили его художественное своеобразие. Если бы тогда существовало понятие о таких жанрах, как «ремейк» или «сиквел», т. е. появление «новой продукции», с использованием ранее разработанных идей, то Чулкова по праву можно было бы объявить создателем первых произведений подобного рода в России!
Как и Достоевский, Чулков тоже пытался запечатлеть широкую картину русской жизни. В «Бесах» события длятся почти 10 лет, у Чулкова описаны три-четыре года того «беснования», которое обозначилось в преддверии Первой мировой войны. Как и Достоевского, ум и воображение Чулкова будоражила мысль об отображении политического движения современности.
Позже, работая над литературоведческой книгой о Достоевском, Чулков внимательнейшим образом проследил путь от замысла к воплощению «Бесов», изучил все подготовительные тетради и наброски писателя и при сохранении внешне объективного тона повествования акцентировал те идеи и те мысли автора, которые были ему особенно близки. Указания на понимание Чулковым основного замысла Достоевского и его постепенную трансформацию бросают свет на то, как он сам понимал свою задачу в момент написания «Сатаны». Чулков воспринимал «Бесы» в первую очередь как памфлет и в своем романе сделал акцент на памфлетной составляющей. Но критические стрелы Достоевского были обращены против социалистического движения и анархистов (прообразами Петра Верховенского были Нечаев и частично Петрашевский), что способствовало тому, что лагерь радикалов вычитывал из романа главным образом «контрреволюционную направленность» (эту идею подхватили и литературоведы советского времени), свой же роман Чулков направил против правых сил, против контрреволюции, против черносотенцев.
Любопытна, однако, следующая параллель: замысел романа Достоевского (правда, в самых общих чертах) возник еще до того момента, как обнаружилось убийство Иванова, отказавшегося повиноваться руководителям «Общества народной расправы». Конечно, конкретизировать многие моменты помогли Достоевскому опубликованные в прессе отчеты о процессе нечаевцев. Но многое он провидел и предчувствовал. Это только потом выяснилось, что то, что в романе кажется «неправдоподобным», имело под собой «реальные основания»16. Момент интуитивного прозрения позволил Чулкову предложить свою концепцию природы фантастического у Достоевского. Литературовед утверждал, что этот элемент предвосхищения событий и способствует формированию «исконного, настоящего <…> реализма», который «глубже»17 привычного. Это и есть знаменитый «реализм в высшем смысле»18. Чулкову, вероятно, очень импонировало, что в «Сатане» он сумел предугадать развитие некоторых событий. Во всяком случае, он в предисловии, предварявшем отдельное издание романа в 1915 г., указал, что его «злободневность», за которую упрекали автора критики, явилась на самом деле не более чем случайностью, а точнее – предвидением: «<…> я задумал мой роман в дни, когда действительность не совпадала вовсе с моим замыслом <…> совпадение это явилось впоследствии и было для меня неожиданным в известной мере»19. И действительно: под рукописью стоит дата 1912.
Кроме того, Чулков обнаружил звенья сюжетного ускорения, определяющие занимательность и «заземленность» романов Достоевского, который «берет канву уголовного романа, чтобы драматизировать ее, построив композицию на театральных принципах – от сцены до сцены, с боевым и острым диалогом, неуклонно ведущим к психологической и философской развязке»20. Чулков и сам начинает нещадно эксплуатировать этот прием, назвав позже свой метод «актуализм», хотя ему не всегда удается избавиться от искусственности и некоторой аффектированности своих сюжетов.
Сюжет романа «Сатана» сводится к свистопляске, которую закрутили вокруг завещания и предсмертной записки отца большого семейства купца Беспятова трое его сыновей, не желающих допустить к обладанию наследством того, кому и оставлено состояние. Каждый из них является потенциальным наследником многомиллионного беспятовского состояния. И наследство это, по мысли автора, не деньги, а Россия, ее судьба, ее будущее. К этому примешиваются и попытки доказательства незаконнорожденности одного из братьев. Кульминацией становится убийство наследника.
Конечно, сыновья Беспятова – это не слепки с Дмитрия, Ивана, Алеши и Смердякова. Скорее, в них черты одного соединяются с чертами прочих, но каждый герой четко политически «профилирован». Они воплощают не столько образы-идеи, как это было у Достоевского, сколько дают концентрированное представление об идеологических устремлениях и тенденциях своего времени. При этом образы Чулкова консолидируют в себе черты нескольких реальных людей. Если о прототипах членов семьи судить трудно (надо глубоко окунуться в реалии тех лет), то относительно Васьки Бессемянного не может быть двух мнений. В этой зловещей фигуре соединились черты Григория Распутина и иеромонаха Илиодора (в миру Труфанова), чьи жизненные пути тесно переплелись. Илиодор долгое время находился под покровительством Распутина, именно с его согласия он устраивал бурные митинги, привлекавшие толпы народа, вел крайне резкую агитацию против евреев и инородцев, выступал против интеллигенции, призывал к погромам, занимался исцелением больных и изгнанием бесов из кликуш и припадочных. Это создавало ему ореол святого и чудотворца. Но еще более искусно использовал он демагогические приемы, которые позволяли ему заручиться поддержкой беднейших слоев крестьянства. Илиодор постоянно нападал на высших должностных лиц, на словах защищал интересы трудового населения. Его умение манипулировать, менять свою «окраску» (он в какой-то период даже начал высказывать резкие замечания в адрес своего покровителя и даже организовал покушение на его жизнь) использовал Чулков при создании персонажа. Но в этом образе есть что-то и от настоятеля Почаевской лавры иеромонаха Виталия, прославившегося националистическими выступлениями и монархическими высказываниями. С Распутиным связывают Ваську Бессемянного сластолюбие, распущенность и бесстыдная развращенность. Заправила черной банды «латников» Фалалей Беспятов тоже выведен сладострастником, плутом и пакостником.
Фалалей, несомненно, соединяет ум и проницательность Ивана с готовностью к подлостям Смердякова. Критик И. Игнатов возвел его родословную к «измельчавшему», «примазавшемуся к политическому движению»21 современности Федору Павловичу Карамазову. Однако он не идейный убийца Достоевского, нравственно разрушающийся под тяжестью навалившихся на него неразрешимых философских проблем, а убийца «по выгоде», этакий писаревский Раскольников, лишенный даже намека на благородство целей, во имя которых совершает свое преступление. Он множит свои злодеяния не столько из идейных соображений, сколько из «любви к искусству», желая половить рыбку в мутной воде заговоров и интриг, испытать азарт политической борьбы. Рядом с ним сошка помельче – его брат Николай, готовый запродать душу дьяволу ради минутного удовольствия. Это уже какой-то оскотинившийся Дмитрий Карамазов. Критики, однако, и в нем уловили сходство с Иваном, указав, что он тот же «нигилист, но более сухой, менее раскидистый, <...> успокоившийся в решении нравственных вопросов, не демонстрирующий, а всем нутром воспринявший теорию “все позволено”»22. Чулков, как мы видим, шел тем же путем, что и Достоевский, «тасуя» черты реальных людей для придания большей убедительности персонажам, но и возводя их генеалогию к героям Достоевского.
Этой компании противостоит носитель прогрессивных убеждений – третий сын купца Иван Беспятов. В Иване Чулков изобразил слабость либерального движения и его представителей, запутавшихся в теориях, программах, пышных и проникновенных словах, не способных предложить программу действий и этим расчищающих путь убийцам (в том числе и своим собственным), погромщикам, которыми руководят «кукловоды» из высших сфер, к коим принадлежит иеромонах Софроний, тоже «совместивший» отдельных из присущих Илиодору и Виталию черт. Отдаленно он напоминает Великого инквизитора, находящегося «за сценой» и удачно манипулирующего своей «паствой»… Четвертый же брат (незаконнорожденный сын Беспятова), художник Хмелев, такой же восторженный и чистый поклонник красоты и вечный мечтатель, каким был Алеша по отношению к религиозной идее. Он, тяготясь действительностью, всецело отдается роковой любви и поэтому никак не может составить конкуренцию братьям.
Так Чулков пытался, соединив идейно-психологический и политический пласты романа Достоевского, приправить свое сочинение соусом националистического анархизма и символистской таинственностью. И ему удалось – во многом благодаря идейной мощи первоисточника, от которого он оттолкнулся, – увязать форму семейного романа с движением истории и дать свое объяснение происходящему в России. Но перевести политическую тенденцию в идейный план он оказался не в состоянии. Идейную одержимость героев Достоевского он свел к политическому фанатизму. Его герои исчерпываются своими политическими симпатиями и антипатиями, у них не происходит смены «символов веры», нет внутренней динамики и противоречий. Если вспомнить формулировку, которой охарактеризовал смысл «Бесов» Чулков: «”Тенденциозная” повесть приобретала новую, более обширную форму и наполнялась иным содержанием, более глубоким и значительным, чем злободневный памфлет»23, то можно констатировать, что роман Чулкова так и остался только памфлетом. Его «Сатана» – острый и «злободневный» портрет исторического отрезка – начала десятых годов прошлого века. Зато когда злободневность для нас, современных читателей, угасла, мы смогли разглядеть «партитуру» Достоевского и поразиться ее разработанности и прописанности. Автор нередко просто механически воспроизводит знаковые детали Достоевского. У него даже есть своя «хромоножка», только обладающая иным физическим пороком – горбом. Такова Анастасия Дасиевна Чарушникова, шныряющая, пронюхивающая и доносящая все и всем особа. Зато элементы характера Хромоножки, боготворящей Ставрогина, готовой на любую жертву ради своего повелителя, господина и возлюбленного, успешно «внедрены» в образ Оленьки Макульской, что сделало эту героиню реалистичной и символичной одновременно. Гиппиус отмечала в ней неожиданное соединение Вечной Женственности с Вечной Дурочкой, что приобретало при рассуждении о судьбе России особый смысл. В ней есть то, что один из влюбленных в нее определяет как «чрезмерную женственность», податливость, готовность к подчинению: «<…> юная девушка, невинная и целомудренная, смотрит на каждого, обжигая как бы влажным огнем, смущаясь, страшась и в то же время соглашаясь на все и отдавая себя»24. В ней все так же лукаво и двусмысленно, как и в Марье Тимофеевне Лебядкиной, она так же пугает и притягивает. Но конец ее значительно благостнее, чем у Достоевского: погоревав об убиенном женихе (Иване Беспятове), она вскоре утешилась, найдя нового претендента на руку и сердце. Это свидетельствует о том, что катастрофизм и трагизм Достоевского Чулков перевел в карнавально-фарсовую плоскость. Его герои несколько напоминают ряженых, играющих навязанные или придуманные роли, но с легкостью переключающихся на что-то иное. Это могло означать, по мысли автора, что судьба России в начале ХХ в. стала разменной монетой в руках представителей всевозможных классов, партий и просто игроков-авантюристов.
Эту же схему Чулков десятью годами позже воспроизвел в пьесе «Душенька»25 и рассказе «Милочка»26. Милочка почти полностью дублирует Оленьку Макульскую: «Странная была девушка Милочка: стоило мужчине взять ее за руку и посмотреть пристально в глаза – и тотчас она лишалась своей воли, готовая на все, как будто предназначенная быть любовною жертвою»27. Героиня готова предложить себя всякому, кто проявит ловкость, силу и настойчивость, и невозмутимо переходит из рук в руки: героями «романов» Милочки-России попеременно оказываются трусливый дворянчик, удачливый буржуа, хамоватый большевик, причем именно последнему удается заполучить ее руку и сердце. Зато в Душеньке-Евдокии акцентировано поэтическое безумие Марии Лебядкиной. И не она выбирает женихов, а отец хочет выдать ее за человека с положением (в этом образе попеременно предстают то «усатый помещик» Нахрябин, то либерал архитектор Расстегаев, то анархист Бедуинов). Но она, как сомнамбула, ускользает от всех, внимает зовам иного мира, тем звукам, которые издает скрипка музыканта-поэта, а потом и идет за ним в неведомую даль – то ли в надежде на преображение, то ли обрекая себя на страдания...
Как видим, обращение к Достоевскому могло быть связано у Чулкова не только с фабульными парафразами, но и с развитием отдельных мотивов (которые он варьирует и усложняет). Увлекается он также и воспроизведением сбивчивого и путаного речевого строя персонажей Достоевского. Так происходит в его повести «Вредитель», где на первый план выдвинуто витиеватое свидетельство повествователя о религиозных спорах, не затухавших и в советские времена. И даже имя одной из спорщиц – Марфа Петровна – призвано, думается, напомнить о жене Свидригайлова, хотя в содержательном плане между ними нет ничего общего. Но и такое «совпадение» следует расценивать как сигнал о постоянно пульсирующих в сознании автора компонентах художественного мира Достоевского.
Художественное творчество Чулкова, аккумулирующее идеи Достоевского, – это некий «путеводитель», Бедекер по сюжетам и мотивам писателя, подобие литературных «этюдов Черни», вводящих в художественный мир предшественника. Это своеобразный «музей мадам Тюссо», населенный знакомыми персонажами. Произведения Чулкова предварили тот подход к культуре, который сводится к распознаванию «кодов» великих художественных феноменов, сложению из ее отдельных элементов современных «пазлов». И это достаточно оригинальный – на фоне опоры или даже переосмысления традиций предшествующей культуры, что было присуще символистам, – способ освоения художественного опыта, предвосхищающего ценность модернистского искусства.
Но Чулков мог черпать не только из «хранилища» мотивов Достоевского. Он и отталкивался от его идей, и питался ими. Они сыграли особую роль в религиозном перевороте, который он пережил в самом начале 20-х годов, отказавшись от переосмысления религиозных концептов в духе мистического анархизма и встав на путь традиционного исторического христианства. Но он мог вступать с Достоевским и в спор, переосмысливая его отношение к своим героям. Так, явную симпатию, а не иронию, как у Достоевского, вызывает у Чулкова старый идеалист 40-х годов Степан Трофимович Верховенский. В стихотворении «Память»28 Чулков называет его «мой друг» и мечтает о том времени, когда с ним можно будет запросто «поболтать». Таким образом, если как литературовед он, солидаризируясь с Достоевским, акцентировал внимание на дурных свойствах натуры Степана Трофимовича, хотя все же брал под защиту тип идеалиста29, то – как художник и человек – готов был видеть в нем приятного, располагающего к себе собеседник.

Вы можете скачать Четырнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
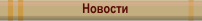
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
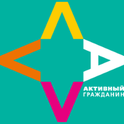
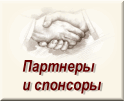


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
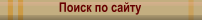
|