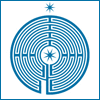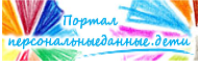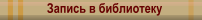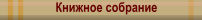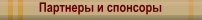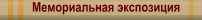Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации
Полонский В.В. Достоевский как сквозной герой дискуссий
в Петербургском Религиозно-философском обществе
1907—1917 годов1
Формулировка темы этой статьи в известном смысле носит условный характер и не содержит эвристической интриги хотя бы потому, что Достоевский – сквозной герой всей русской культуры пресловутого «серебряного века», непременный объект ее самосознания и, так сказать, метарефлексии. Петербургское Религиозно-философское общество 1907–1917 годов2 – фрагмент, хоть и важный, общей композиции культуры рубежа веков, функционировавший по ее общим законам. Прежде всего мы должны констатировать, что роль, какую играл феномен Достоевского в дискуссиях на заседаниях РФО, в целом тождественна той функции, которая ему отводилась в метаязыке эпохи в целом, по крайней мере в ее модернистском полушарии: Достоевский – это устойчивый литературно-критический, историософский и культурологический концепт «тайновидца духа», нового – кризисного – эона русского и европейского самосознания, размыкающего одномерность позитивистской картины мира в прозрение доселе забвенных бытийных бездн, – концепт, неизбежно включенный в рамках единого символического метамифа культуры в ряд дихотомий, оппозиций и комплементарных пар – прежде всего с Толстым и Ницше, но также и с Пушкиным, Гоголем, Вл. Соловьевым и др.
Определенный интерес представляет собой, разумеется, не сам этот факт, не общепонятные коннотации, связанные с феноменом Достоевского в языке эпохи, а потому и в языке, на котором говорили диспутанты в РФО, а особые акценты и нюансы, вносимые ими в эти коннотации, конкретные изломы и скрещения значений и смыслов в их речениях о Достоевском. Среди активистов общества находились люди, формировавшие критический мифо-дискурс русского модернизма, в котором имя Достоевского становится оперативной единицей, но вместе с тем существенно, что объектом особого рассмотрения Достоевский на заседаниях РФО стал лишь однажды – 18 апреля 1911 г., когда Вяч. Иванов выступил с докладом «Основы миросозерцания Ф.М. Достоевского», получившим при публикации знаменитое название «Ф.М. Достоевский и роман-трагедия». Характерно при этом, что ивановская работа – этапная для русского модернистского религиозно-философского достоеведения, напряженно изучаемая, интерпретируемая и нуждающаяся, естественно, в отдельном разговоре, – в генеральной логике дискуссий в обществе стоит особняком, лишь по касательной сходясь со сквозными сюжетами прений. (Характерно даже и то, что стенограмм дискуссий по докладу Вяч. Иванова и непосредственных откликов на них не сохранилось.) В этих сюжетах о Достоевском специально речь не шла. Но имя писателя упоминалось постоянно как указание именно на рабочий устойчивый концепт, как непременный инструмент полемики. Здесь показательно, что ко второй половине 1900-х–1910-м годам уже был создан ряд ключевых для модернистского достоеведения критических текстов, выявляющих в писателе, по слову Вяч. Иванова, «великого зачинателя и предопределителя нашей культурной сложности»3, – начиная со знаменитой книги Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», «Легенды о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» Розанова и вплоть до статей Ин. Анненского в «Книгах отражений». Причем этот ряд текстов был не просто создан, но и утвержден в сознании культурного читателя как компендиум устойчивых формул и мифологем, которые могут пускаться в ход без сопутствующей понятийной и терминологической рефлексии.
Так и происходит в ходе дискуссий в РФО, где имя Достоевского методично употребляется не для того, чтобы сказать новое и важное о писателе, а как элемент языка самоописания русской религиозно-философской культуры начала XX века в перспективе национальной историософии, как определенный идеологический комплекс, включенный прежде всего в контекст размышлений о судьбах нового религиозного сознания, которые, несомненно, и выступают сквозным сюжетом основных дискуссий в обществе, предопределяющим, вопреки суждениям А. Карташева и ряда иных членов РФО, их непосредственную преемственность по отношению к Религиозно-философским собраниям 1901–1903 годов.
Дискуссионная теза заседаний, задающая тонику узловых для РФО прений на годы вперед, была введена первым установочным докладом С.А. Аскольдова «О старом и новом религиозном сознании», направленным в пику Мережковскому. Докладчик указывал два русла в движении современного религиозного сознания, которое мы с условно-отстраненной точки зрения можем назвать реставрационно-пассеистским и футуро-утопическим. Первое он связывал с практической направленностью к «обновлению церковного строя на началах соборности» и «восстановлению первоначальной чистоты и высоты религиозного сознания первых веков» христианства (I, 37–38), второе, сопряженное с неназванным, но для всех очевидным именем Мережковского как главного проповедника «нового религиозного сознания», – с недоверием к историческому прошлому христианства, поскольку оно выражает, с точки зрения автора «Христа и Антихриста», одностороннюю истину аскетизма, монофизитски пренебрегая правдой о плоти мира. В своем докладе Аскольдов противопоставляет хилиастской спиритуализации материи Мережковским с его концепцией «трех заветов» свернутое, но емко-целостное богословие повреждения – вследствие грехопадения – материального состава тварного мира, восстановление которого в Новом Иерусалиме не имеет ничего общего с учением об откровении новой правды о единстве Неба и Земли в Третьем завете. Докладчик говорит о трагическом смешении злого и божественного элементов в наличной твари и подчеркивает, что вырастающий отсюда конфликт нигде «так не обострен, как в области прекрасного» (I, 45). Для Аскольдова глубинная творческая правота Достоевского состоит именно в том, что он изнутри современного опыта прозрел: «красота не только страшная, но и таинственная вещь», поскольку «красота, сущность которой заключается в полноте и гармоничности выражения форм, в ритмическом движении жизни, имеет несомненный свой источник в Боге», однако она же, «как живая сила конечных субстанций, может отрывать от Бога и вести к разложению и смерти, насколько она влечет к самоутверждению и обособлению» (там же).
В этой конструкции достаточно отчетливо просвечивает софийный мифологический слой – интуиция пленения Души мира, Предвечной красоты темным началом, обрекающим на двойственность и неразличимость софийного лика и падшей личины. В целом софийная риторика Петербургскому РФО, в отличие от московского общества Вл. Соловьева, свойственна не была, по крайней мере она была там значительно более размыта, подминалась то физиологизмом Розанова, то позитивизмом марксистов-«богостроителей», то схемами Мережковского и его присных, но порой все-таки выплескивалась вовне. Чаще всего – благодаря приезжим москвичам и в сопряжении именно с Достоевским.
Так, на заседании 3 февраля 1908 г. в прениях по поводу своего доклада «Идея христианского прогресса» В.Ф. Эрн как раз в ключе софийно-христианского платонизма и мистического реализма подает – от противного – собственную концепцию эстетического призвания художника: «Обыкновенно поэты, писатели, художники в какой угодно сфере искусства, – если они не проникнутся <…> логосом христианства, если они свободным сознанием не принимают, как бесконечно реальное, то, что они воплощают, а принимают только, как известные психологические переживания в себе, – то этим самым они подрезывают у себя крылья. Они лишаются той настоящей теургической девственности, которой они могли бы обладать» (I, 262). Вступая в полемику с В.П. Протейкинским, Эрн подчеркивает свою веру в переход в ближайшее время к опыту переживания художниками «верою» «реальности той красоты, которую они переводят в наш мир», и утверждает, что к этому приближается опять же Достоевский (там же).
«Пороговость» фигуры Достоевского, его знаменательно-призывное пребывание на грани двух эонов духовного развития, за которой открываются новые религиозные горизонты, – обязательная составляющая любых упоминаний его имени. Но семантика «пороговости» может при этом толковаться совершенно различно.
Принципиально несофиологическую – и в сущности «промережковсковскую» – трактовку «пороговой» фигуры Достоевского предлагает С.Л. Франк в прениях по поводу упомянутого доклада Аскольдова. В дискуссиях о понимании плоти в «новом религиозном сознании» он отмечает в качестве наиболее существенного симптома современности потребность в преодолении именно традиционного для исторического христианства дуализма между благим Творцом и злом материи. Фигуру Достоевского, как и Ницше, Ибсена, Метерлинка и Уайльда, философ связывает с возникновением нового нравственного сознания, которое, преодолевая былой ригоризм, бросает вызов дуалистичности исторического христианства и классическому церковному богословию теодицеи в пользу монизма Бога как начала всеохватности и всеосвящения, субстанционально вбирающего в себя полюса добра и зла (I, 66).
В своем докладе «Христос и мир. Ответ В.В. Розанову» на заседании 12 декабря 1907 г., занимаясь апологией «нового религиозного сознания», Н. Бердяев в сущности подхватывает эти идеи Франка и, как бы предвосхищая возражения оппонентов, дает свою версию согласования тезиса о принадлежности Достоевского к новому типу религиозного мышления, преодолевающего историческое христианство, с реальной православностью писателя и его «ретроградной» церковностью. «В мире нарождается новая религиозная душа», – утверждает Бердяев. И разъясняет: «Мы ищем Церковь, в которую вошла бы вся полнота жизни, весь мировой опыт, все ценное в миру, все, что было подлинным бытием в истории. <…> Люди старых религиозных чувств и старого сознания идут в Церковь спасаться от мировой жизни, замаливать грехи, накопившиеся в миру, и все, чем они живут, оставляют у входа в ограду Церкви. <…> Этого дуализма мы уже не можем вынести, этот дуализм стал безбожным, он умерщвляет религиозную жизнь, является хулой на Св. Духа. <…> Достоевский и Вл. Соловьев больше всех сделали для нового религиозного движения, это самые большие наши люди, наши учителя, но их религиозная душа наполовину была еще старая. Достоевский и Вл. Соловьев были очень сложные люди, глубоко пережившие весь опыт новой истории, прошедшие через все соблазны и сомнения, в них накопилось много новых богатств. Но в Церковь они шли по-старому, все их богатства не входили с ними в Церковь, весь их опыт не делал этой Церкви обширнее и поместительнее, в Церкви они себя лишь отрицали. <…> Достоевский в “Легенде о великом инквизиторе” открывает религиозные дали, чувствует несказанную религиозную свободу, а ходит в Церковь с настроением, замыкающим все горизонты» (I, 199–200).
Показательно, что даже сам «синтаксис» имен деятелей культуры, то есть система сопоставлений и логического соседства, применительно к Достоевскому на заседаниях РФО будет принципиально разниться в зависимости от принадлежности либо степени близости выступающего к апологетам «нового религиозного сознания». У представителя другой культурной модели эти построения будут выглядеть совсем иначе. Как, например, у младосимволиста и сторонника исторического христианства Сергея Соловьева. В своем докладе 5 декабря 1913 г. «Идея Церкви в поэзии Владимира Соловьева» Сергей Соловьев, так же как Бердяев, сопоставляет фигуру своего дяди, в частности, с Достоевским. Но приходит к прямо противоположным выводам, фиксируя совершенно чуждую Вл. Соловьеву причастность автора «Карамазовых», подобно и иным русским классикам-«духовидцам» послепушкинской поры, к двусмысленно-дионисическому смешению духовных реалий, на дрожжах которого выросло «новое религиозное сознание» рубежа веков: «Будучи сам религиозным проповедником, он [Вл. Соловьев] связывал свое дело не с делом религиозных проповедников Толстого и Достоевского, а с поэтическим делом Пушкина» (II, 316); «высокую торжественность и религиозный восторг, создавший “Пророка” и “Монастырь на Казбеке”, Вл. Соловьев назвал одним библейским словом – Ветилуя, дом Божий, противопоставив это сверху идущее вдохновение пифизму, дионисизму Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Толстого, восхваляемому Розановым <…> Соловьев резко отмежевывает себя от того, еще только возникавшего при нем “нового религиозного сознания”, основой которого является дионисическое понимание христианства, выводимое из религиозного вдохновения Лермонтова, Достоевского и Толстого. Вл. Соловьев противопоставил этому пониманию христианства аполлоническое, горнее созерцание Пушкина <…> Этот пушкинский взгляд вверх <…> противопоставляется взгляду вглубь, психологическому самоанализу Толстого и Достоевского» (II, 317). «Только теперь, когда религия Толстого и Достоевского дала новое религиозное сознание Мережковского, а метод психологического анализа привел к полному разнузданию хаоса у Леонида Андреева и его последователей, мы можем оценить в полной мере этот призыв Соловьева к объективной красоте Пушкина» (II, 317–318), – заключает докладчик.
По мере того как в РФО укреплялись позиции вернувшихся из парижской эмиграции Мережковских и их голос на заседаниях звучал все громче, упоминание Достоевского постепенно превращалось в обязательный компонент дискуссий с явственным злободневно-политическим привкусом. Общественная «реакционность» писателя, его почвенность и вера в «богоносную» миссию русского народа в полемических эскападах Мережковского становились постоянным жупелом. Такого рода дискуссии писатель обычно выстраивал по одной риторической схеме, призывая оппонентов из числа лояльной к православию интеллигенции к последовательности в духе славянофилов и Достоевского, которая подразумевала бы логичное приятие самодержавия. А это воспринималось как разящая наповал инвектива.
Риторика подобного рода благодаря Мережковскому в истории общества дважды переживала подъем. В первый раз – в конце 1908-го – 1909-м годах, во второй – в 1914–1915-м годах.
Причины второго подъема очевидным образом обусловлены всплеском с началом Мировой войны патриотизма, а также попыток религиозно осмыслить народный мессионизм и мистику национального в России и желанием членов общества дать тому философскую оценку, в том числе сочувственную (доклады: «Религиозный смысл мессионизма» А.А. Мейера от 26.10.1914, «О современном патриотизме» С.М. Соловьева от 21.12.1914, «Идея нации» С.И. Гессена от 5.02.1915, «Виновата ли германская культура?» Г.А. Василевского от 08.03.1915, «Государство и религия» Д.М. Койгена от 15.03.1915, «Национальная самобытность и религиозное сознание» Г.И. Чулкова от 05.12.1915 и др.). Это неизменно вызывало живые отповеди со стороны Мережковских, настаивавших на том, что за практическим патриотизмом неизменно просвечивает «лицо Зверя» – антихристов национализм.
Что до первого подъема, то он был вызван прозвучавшим 30 декабря 1908 г. программным докладом «О русской идее» если не явного противника, то все же главного, так сказать, криптооппонета Мережковского в РФО – Вяч. Иванова. Этот текст – вершина утонченно-философской апологии русского религиозного мессионизма. Здесь разворачивается парадигматическая для Иванова мистико-диалектическая формула нисхождения русского народного духа к примитивной культуре во имя восхождения-воскресения в новой органике вселенской полноты, которую миру дарует русский народ-богоносец при условии успешного прохождения этих мистериальных этапов. В начале своего доклада у истоков современной религиозной эсхатологии Иванов помещает антитетическую пару – Ницше и Достоевского: «Достоевский и Ницше, два новых властителя наших душ, еще так недавно сошли со сцены, прокричав в уши мира один свое новое и крайнее Да, другой свое новое и крайнее Нет – Христу. Это были два глашатая, пригласившие людей разделиться на два стана в ожидании близкой борьбы, сплотиться вокруг двух враждебных знамен. Предвозвещался, казалось, последний раскол мира – на друзей и врагов Агнца» (I, 397).
Насколько мы можем судить по газетным отчетам о ходе прений4, Мережковский в свойственной себе полемической манере риторически редуцирует смысловую сложность построений Вяч. Иванова до простейших идеологем с политическим «душком», опять же связанным с Достоевским как последовательным выразителем мистики исторического христианства, писателем, который разворачивал до конца его «реакционный» потенциал. «<…> вера в особую русскую идею сближает В.И. Иванова с Достоевским, но известно, что у Достоевского “русская идея” совершенно определенно связана была с его симпатиями к старому русскому укладу жизни, и действительность всегда является оправданием по существу антихристианских, антихристовых начал русской жизни», – так резюмирует хроникер речь Мережковского в ответ на доклад Вяч. Иванова5. И добавляет, что Иванов, в свою очередь, назвал соображения Мережковского «не имеющими никакого отношения к его реферату, потому что в нем нет решительно ничего, напоминающего то понимание русской идеи, какое было у Достоевского»6.
Вполне определенно по тому же поводу Мережковский высказывается и в своем докладе «Земля во рту» 3 ноября 1909 г.: «<…> говоря языком Вяч. Иванова: если в православии – воля к нисхождению, самоотречению, погребению себя во Христе – одна половина русской идеи, то в самодержавии – другая половина этой же идеи – воля к восхождению, самоутверждению, воскресению. Во Христе ли тоже? Для Достоевского, для славянофилов – да» (II, 11).
Приятие мистики самодержавия как следствие приверженности историческому православию и русской почвенной мысли в духе Достоевского, как следствие критического взгляда на духовную безбытность светской «богоищущей» интеллигенции – это, с точки зрения Мережковского, тот предел «падения», которое нужно признать за авторами сборника «Вехи». В своем развернутом обвинительном слове в адрес «веховцев», зачитанном как доклад «Опять о интеллигенции и народе» 21 апреля 1909 г., Мережковский цитирует Булгакова: «Национальная идея <…> основывается прежде всего на мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое сознательное национальное чувство. Так именно понимали национальную идею Достоевский, славянофилы, Вл. Соловьев». И делает вывод: «Но ведь знает опять-таки Булгаков, и мы знаем, в чем для славянофилов заключается мессианизм: в трех наглухо спаянных звеньях: православие, самодержавие, народность. Приняв два крайние звена – православие и народность, – на каком основании выкидывает Булгаков среднее, соединяющее, главное? Выкинуть его значит порвать цепь. В чем реальное воплощение и динамика исторической церкви вне исторической власти? <…> Если душа России – православие, то тело – самодержавие» (I, 575–576).
Несомненно, последовательная увязка Мережковским таинственного опыта православия с мистикой самодержавия, в том числе у славянофилов и Достоевского, могла бы стать предметом серьезной философской и богословской дискуссии, будь она пущена в ход в иные годы (не в условиях вызывавшей интеллигентскую идиосинкразию «столыпинской реакции») и в иных обстоятельствах – хотя бы в московском обществе Вл. Соловьева. Но прагматика заседаний Петербургского РФО после 1908 г. стараниями постепенно укреплявших свою власть там Мережковских – идеологов догмы «религиозной общественности» – нередко заглушала живую мысль пронзительным окриком политической инвективы, поверяла ее на резонаторе либеральной цензуры.
Не случайно на общем собрании РФО 26 января 1914 г., посвященном вопросу об исключении В. Розанова, звучали резонные суждения, что «в искреннем и честном увлечении общественными идеалами Д.С. Мережковский не подал бы руки Достоевскому…» (II, 433).
Постепенно такой подход к философским дискуссиям и обслуживающий его критический язык выдыхались и изживали себя. Ясно, что, упоминая Достоевского, культуртрегеры РФО свидетельствовали прежде всего о себе, о своих прозрениях, фобиях и болезнях. В пореволюционной ситуации, в иных условиях, когда энергия русской религиозно-философской мысли искала новых форм воплощения и в Советской России, и в эмиграции, достоеведческая оптика получила шанс парадоксальным образом очиститься. В том числе и та, что непосредственно наследовала РФО, если судить, к примеру, по материалам парижских собраний «Зеленая лампа». Но это – другая история.

Вы можете скачать Четырнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
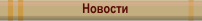
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
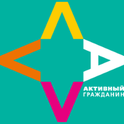
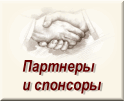


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
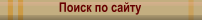
|